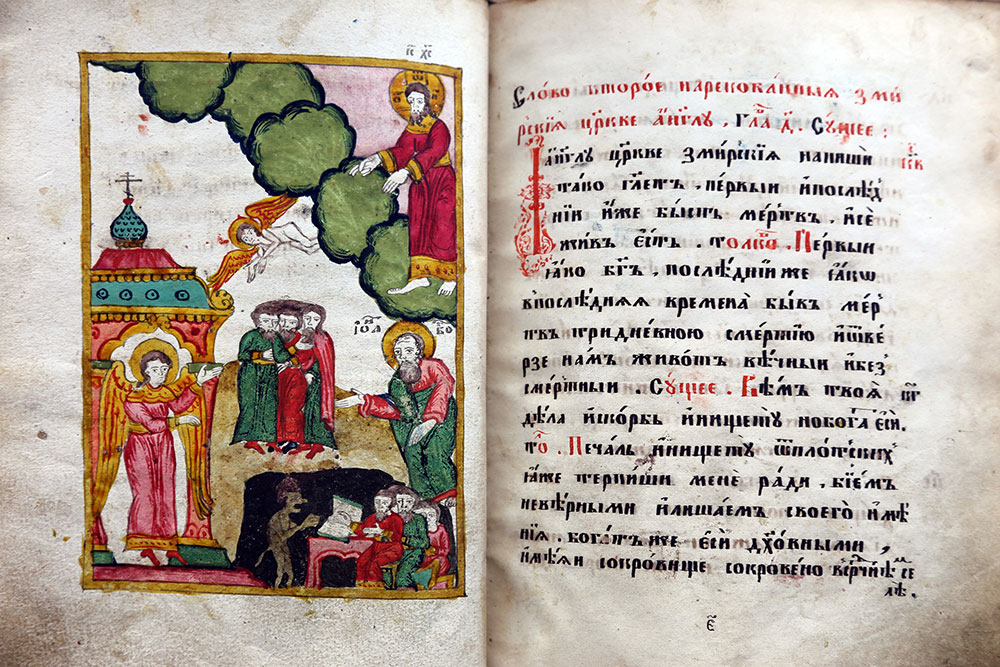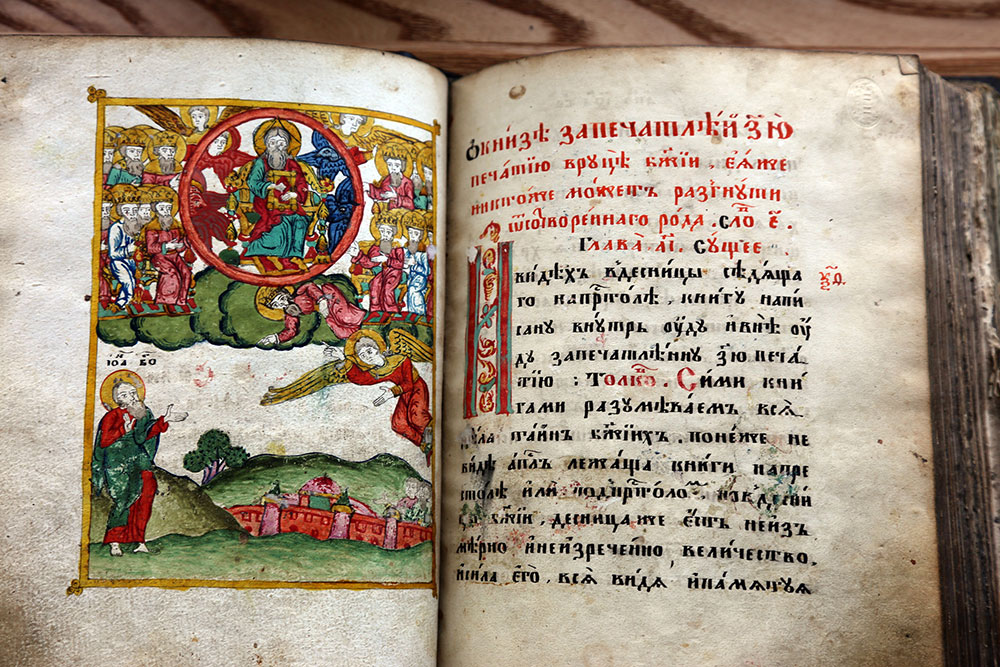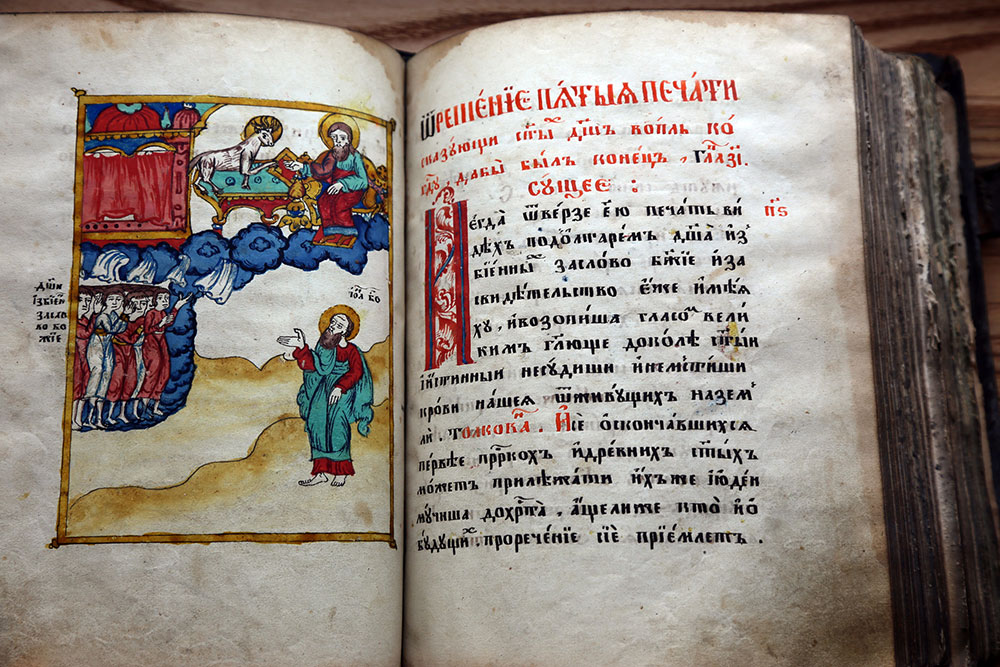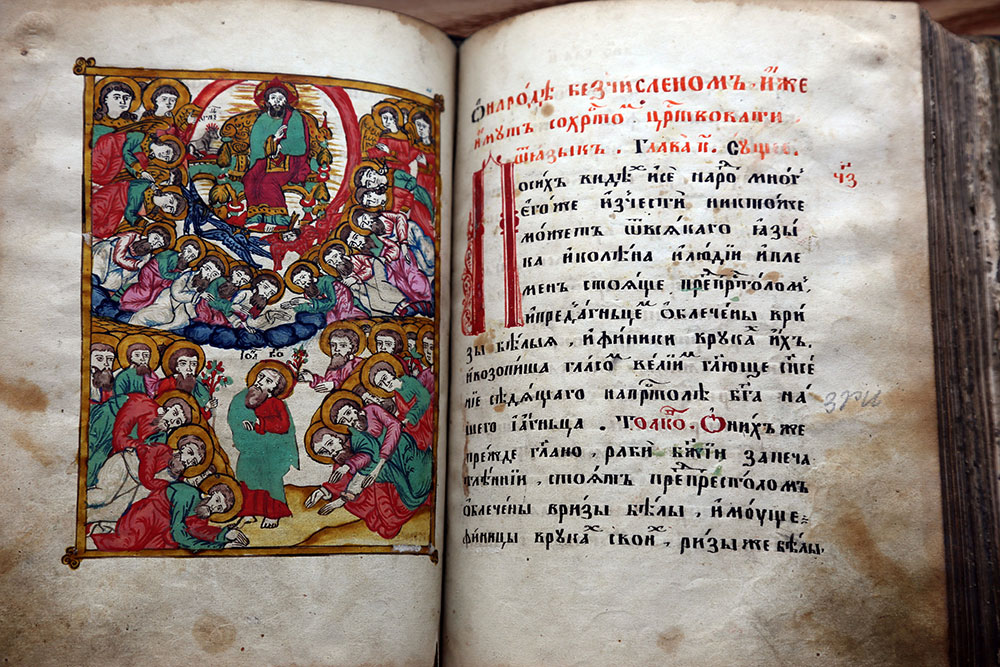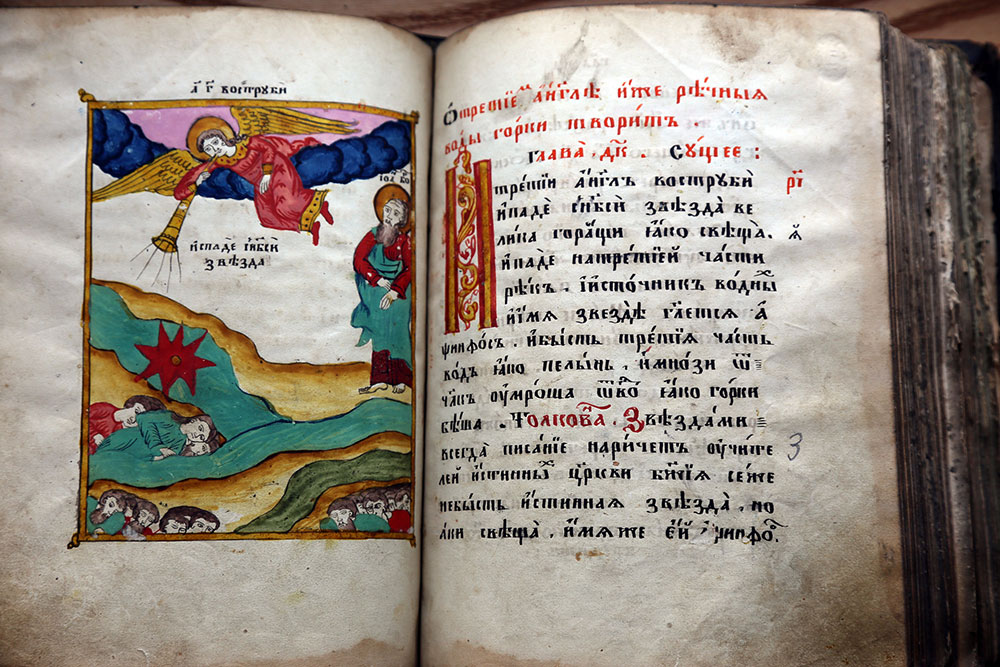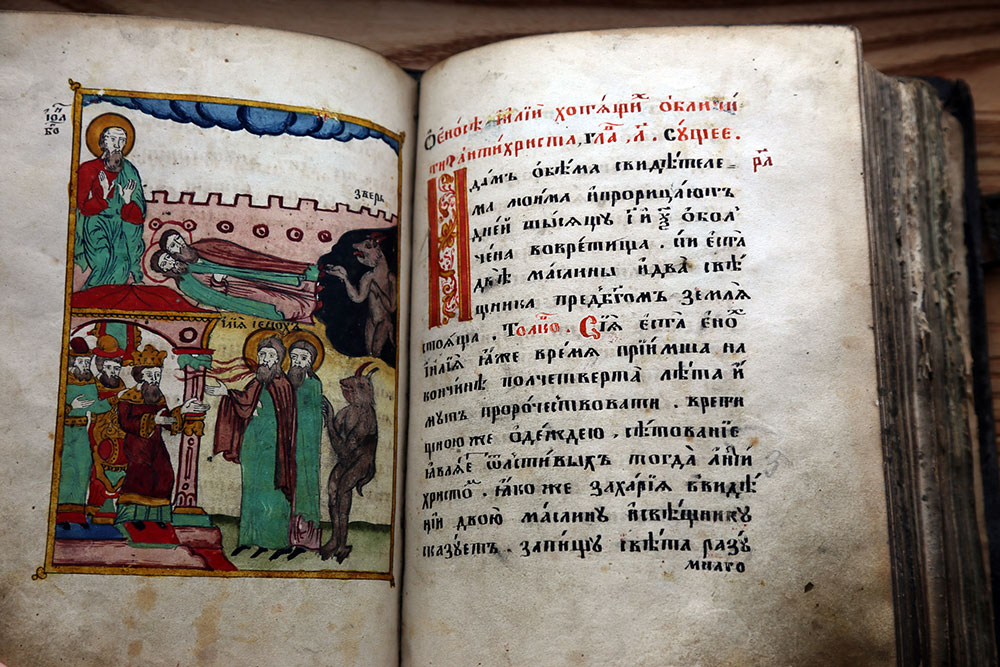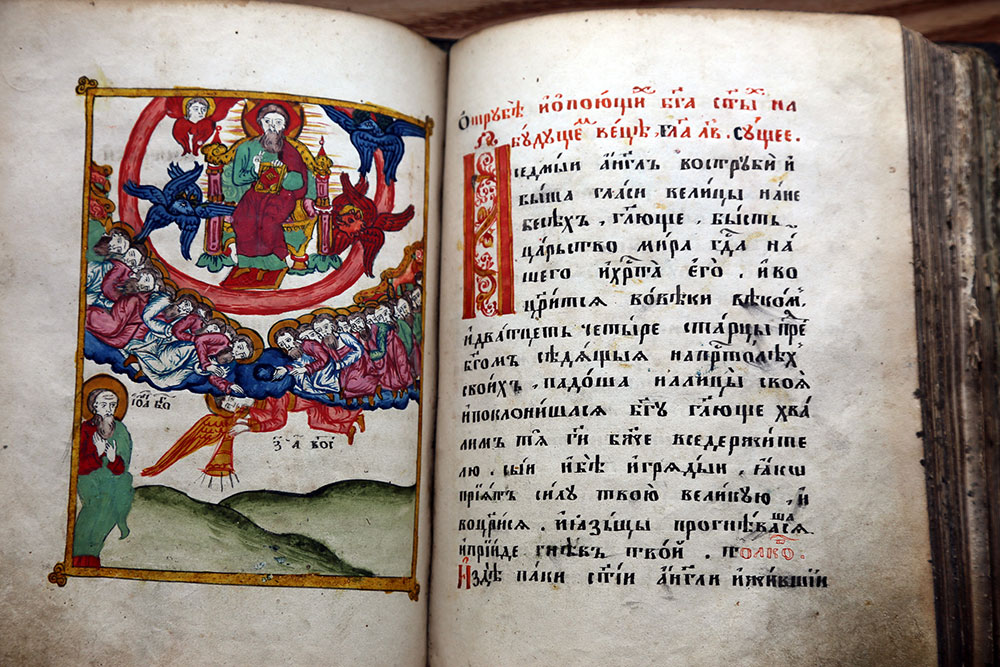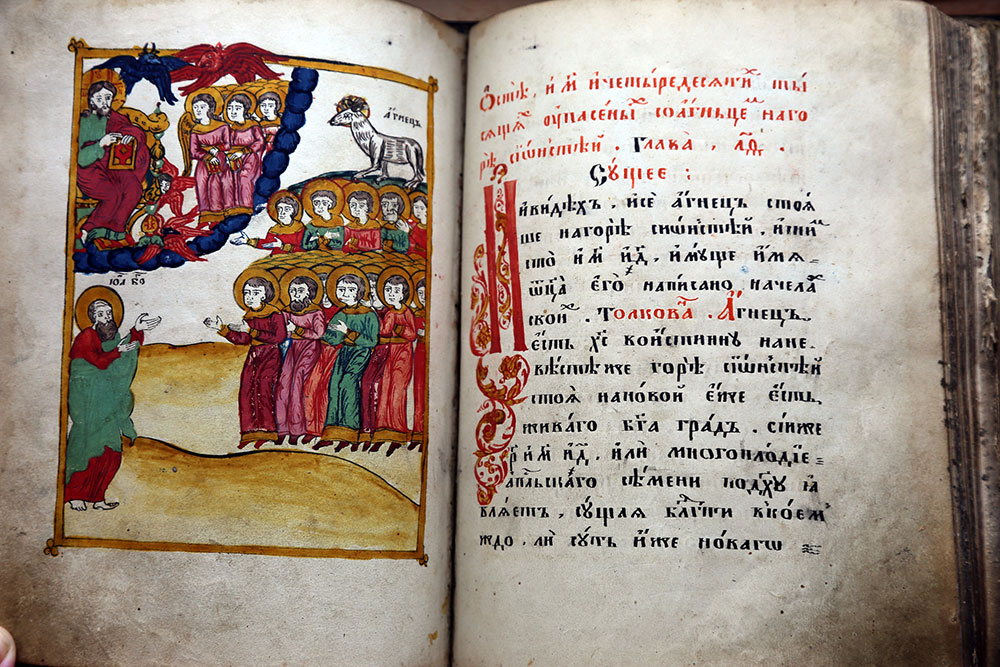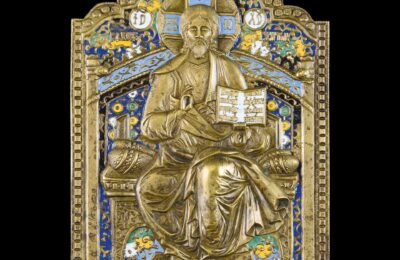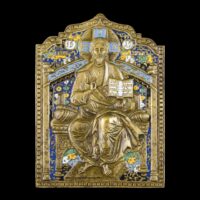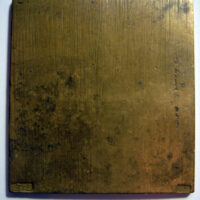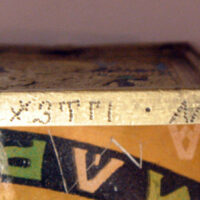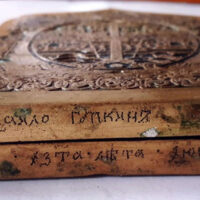А. Денисов. Праведный от веры жив будет
Слово Андрея Денисова поморского киновиарха
Праведный от веры жив будет [Аввакум глава 2].
Многих и неизреченных благ, добродетели виновны бывают: ибо тех ради стяжавшии я безсмертною славою ублажаются.
Каяждо бо добродетель, истинно лобзавшаго ю, неисповедимою красотою венчавает: и паче маргаритов белоблистающих украшавает. Терпением бо прославляется Иов многострадальный. страннолюбием же сияет, Авраам недростяжатель райский. всюду превопиет целомудрием, Иосифово и Сусанино. кротостию светится Давыд царьственный псалмопевец. ревностию горяй, огненный колесничник Илия удивляем. Даниил же муж желаний духовных проповедается: тако в ветхом, яко и в новом завете, различными добродетелей маргариты, светоблистает церковь. Но аще и многи звезды блистают, единоже небо сих стяжавает: аще высокоустроенный дом красновидно усмехается, но основания крепостию весь утверждается: тако церковь, аще многими светоблистает добродетельми, но единою веры православныя красотою светлеется. многа строения духовная: но едино основание, вера православно кафолическая. Ибо Павел сосуд избранный вопиет, кроме же веры невозможно есть угодити Богу. О той пророк велегласно взывает. праведный от веры жив будет, с сим пророческим гласом желаю аз грубый, за молитв ваших желаю, словодатне приити. к вашему церковному сословию не яко доволен, но желание много имый украсити боголюбное и братолюбное ваше совокупление: не сребром не златом не белостию маргаритов, не блещанием камений драгих. не инеми от тленных ими же мир любокрасится: но теми, киими вы услаждаетеся: сими от них же веселитеся. которыми просвещени и просвещаетеся. еже есть животною верою ея же ради странствуете. и различно страждете, ею же животворитеся, о ней же и глаголати и слышати и усердствовати, присно долженствуем. Есть же вера по апостолу Павлу. уповаемым извещение вещем обличение невидимым: Бога невидимаго поелику мощно человеческое познавание, Творца твари от твари ведение, извещение Божия к человеком повеления. вера Божиих тако на земли древних дел. яко на небеси невидимых светлостей, несумненно показание. вера вочеловечения Сына Божия. известнейшее явление. вера апостольскаго учения нелестное послушание: отеческих преданий. невла́емое хранение: православно кафолическия церкви непоколеблемое основание вера по согласию со святыми благодатей Божиих. тако на небеси, яко на земли. неошибное получение. О дивность, православныя веры. о богоданныя нам светлости ея. едина к единому Богу. единем православия светом: но различными лучами блистает вера, яже невидим. известнейше еже видим веруем. не видим Бога, веруем во единаго Бога. не видим, ни видети можем, трех ипостасей в единосущественную трисоставную Троицу. не видехом видимую и невидимую тварь сотворшаго Бога. веруем, яко вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть. еже бысть. не видехом вочеловечьшася Божия Слова на земли плотию поживша, крестившагося, распята воскресша, учеником заповедавша. учити Его заповеди и крестити, пред ними же вознесшася плотию на небо: но веруем несумненно, всему яже о нас человеколюбному смотрению Его. Не видехом тако в древнем, яко в новом завете спасительныя заповеди, Бога заповедающа нам творити: веруем и не сумневаемся. Веруем во святую соборную апостольскую церковь, и не истязуем. веруем яже Христом и церковию Его. тайны новаго завета, преданныя во спасение нам: и с любовию приемлем. прежде яже видим. безмерно яже не видим веруем. в воде православном крещении: веруем еже не видим Духа Святаго сошествие, Им же первороднаго и прочих грехов очищение, во Христа облечение: и прочая православным крещением нам подаемая. в хлебе и вине. в православнодействуемом причащении: веруем еже не видим. самое тело, и самую кровь Христову быти. и чрез прочая видимая тайнодействия церковная, невидимыя благодати приятие веруем, тако. Крест Христов тричастный. видим мал видением: веруем и исповедаем. распятаго ради на нем Христа. небес ширши быти силою его. и знаменованием его по преданию церковному. веруем тайнодействам совершатися, и прочим на них же знаменуется и освящатися: и всему добрыя веры таинству. в знаменовании его исповедоватися веруем таинственне.
Тем же веры имя тое есть: еже по апостолу, извещение уповаемым, невидимым обличение. его же чувствами телесными не познаваем, но извещением умным уповаем, его же чувственныма очима не зрим: но душевным оком светло разумеваем, его же пред собою не чювствуем не осязаем: оно чрез умное постижение. надежно лобзаем, любовию объемлем, сердечно услаждаемся. но аще тако великая, тако неодержимая вера. откуду правая в нас вливается: откуду невидимая, в невидимей души. известно всаждается; Павел учитель языков: вера [рече] от слуха, слух же глаголом Божиим. а понеже глагол Божий в церкви Его. аще от пророк, аще от апостол. аще от святых отец реченный. Духом Святым реченный: тем же от Бога есть: убо вера от Бога в нас известная глаголом Его творится. ибо и в создании, словесной души даде Бог силу веры. во еже мощи веровати в Него, невидимаго Сущаго и непостизаемаго. верою единою познаваемаго: глаголом же Его и ныне назидает и просвещает, и известнейшу в нас творит.
Тем же не в теле, ни в телесных чувствах, ни в телесных доброделаниих. веры доброта но в самословесной души раждается, аще и телесными детельми помогаема и показуема. или аще не такова объявляема, но обаче духовна добродетель сия невидима сущи, в невидимей души состоится, с прочими же добродетельми таково имать. яко без нея каяждо добродетель богоугодна быти не может; с нею надежда и любовь красуется: о ней воздержание, смирение, терпение, утвержаются. пост, целомудрие, милосердие, при той светлеются. ибо таже душевнии, яко телеснии добродетели, с верою совокуплени, добродетели богоугодни сице бывают. Не токмо же в сопряжении прочих добродетелей, но имати всех благих по Божественному Златоусту. вера есть: тая, егда к Богу будет теплая присная раждает молитву, милосердие, терпение, пост соделовает: созидает целомудрие: уряжает воздержание, и смирение. тая приемлет блудницу. и творит вселенней покаяния плод. приемлет гонителя, и творит вселенней благовестника. приемлет чадолюбиваго отца, и творит боголюбивейша веры делателя, презирающа естества пределы. воююща на свое чадо, приемлет грешники и творит праведники. Приемлет чревообъястники и пияницы. и творит воздержники постники, и водопийцы. приемлет своевольнаго лениваго. и творит послушнаго тщателя, и ревнителя трудолюбнаго. поелику бо вера цветет в сердцы, потолику и тело спешит на службу: рече лествичный небосошественник. тем же вера егда будет напаяема словом Божиим, егда к Богу возженная теплая. егда несумненная, егда со святыми согласная, тогда последовати ей будут вся добродетели: тогда уступают страсти, бегают грехи, фараон томитель в мори безстрастия утопает, злость безстудная египтян умолчевает; израиль ум зряй Бога верою, от всех злых египетских свобождается. поет сладкия победныя Богу песни. ударяя в тимпан безстрастия, иго благо, и бремя легко Владычнее и глаголет и помышляет. но тако вседейственная вера, недейственная от несоюзных тоя бывает. егда бо излишная многоиспытная стязания, и словопрения наведеши души, тогда она ску́товается: егда несогласно со святыми мудрование нанесеши, она в души нелепа стается. егда ереси и противства привнесеши, тая тогда неправая и неправославная у тебе соделовается. егда сомнение помысла привнесеши. тая тогда малая творится: егда грехи, страсти, похоти лукавыя родиши, тогда тую студеную и мертвую устраяеши. якоже облаком мрачным аер застанови́вшим: земля солнечных сладких лучь лишается: тако несоюзная вере душа приемши, лишается окаянная благодатных веры действ. Но иже смеющии противным тако мудрованием, яко дело творением, святей вере досаждати. пагубе вечней злочастнии предаваются. ибо тако еретики, яко расколники и раздорники: противно мудрствующе святей церкви, и несогласно со святыми учаще и творяще: клятве и смерти вечней, повинных себе учиниша: и мнящеся веровати, святей вере досадники учинишася. аще бо праведный по пророку от веры жив будет: они неподобишася вечнаго с церковию живота, яве яко противны вере святей, чрез какое свое неправомудрствование ста́шася. Понеже еретик есть, и еретическим законом подлежит, аще и мало кто уклоняется от православныя веры: у святых сице написано. и Златоустый в беседах на реченное Павлом анафематисание толкует глаголя: и не рече аще противное возвестят, или превратят все, но аще и мало нечто благовествуют, паче еже благовестихом, аще и худое что подвигнут: анафема да будут. Елма убо сице силна вера, противящиися и недостойне ей действующия, осуждавати; убо и добре говейно стяжавающия ю. могуща прославляти, и равно тако в богатших, яко и в нищайших действующия. равно лучи благодатныя. яко в багрянице на престоле седящему, сице на гноищи в рубища одеянному изливающа. и равно никому кроме Бога неподвластна. но над всеми царьствующа и владеюща; тако над простейшими невежды. яко же над нами вышшими архиереи. якоже вышний Бог лица к суду не приемлет сице она лицу славных не стыдится, и последних говейно об ней прилежащих не обещевает. ибо во архиереох и иереох пребывает, и походит в них и украшает и украшается с сими: но егда и тии достойная той, согласно со святыми. и мудртвуют и учат: егда же ли тии презрят тоя величество, чрез достоинство ея. противно святым, новоучити и новодействовати начнут: тогда она уничиживши их, благодати луча своя спрятавши. общения их удаляется. тако бо Павел велегласно вопиет, аще мы или ангел с небесе благовестит вам, паче еже благовестихом, анафема да есть. Аще же и нерукополагаемии достойно в вере. и с верою жительствуют: тогда она в них украшается, и их украшает. сице Мелетий патриарх Александрийский, в послании до белорусцев, отступивших от архиереов повредившихся в вере похвально глаголет. называя их, православия заступниками, овчатами христоименитыми, светом тмою неповрежденным. ангелми земными, столпами недвижимими: удивляютлися их наипаче. еже восприяша пастырьскую ревность, со злыми пастырьми, не отпадоша: но пребыша крепце во отцепреданном благочестии. тако достойне ю содержащия человеки просветлевает, яко же и места в честь Богу и ей сотворенная. пресветла творит: иже местом необъемлемая. храмы прославляет чудны, церкве достойны, иконами святыми украшены. многи раками телесе святых прославлены, ликами чинами светлоукрашенными, сияюще. блистающе ризами златозарными. песненными сладостьми и читательною красотою, медокаплюще звонами светлогромными чиновременно шумяще. народами православными яко звезды пресветлыми собираеми: наипаче таинствы священными и самем телом и кровию Христовою. яко солнце втории пресветло сияюще, великолепотная зрелища небесе подобящаяся, лучезарно светлеющаяся бывают. но аще вера со святыми согласная в них. неповрежденно соблюдается, тогда тако бывает: аще ли же новинами, и ересьми, и раздорьми святая вера в них досаждается: увы жалости, не терпит в таких светлых храмех жити досаждаема: но отлучающися многажды, со страждущими в темницах за Христа и за законы Его страждет: з бегающими богорадне бегает, со странствующими Бога ради странствует, в скровных домех, страха ради гонителей скрывается: в ненаселенных местех пустых, поселяема бывает во всех сих с теми. иже достойне тую почитающими содержится. но тако в нужду по случаю, кроме священников, кроме видимых церквей, кроме литоргий. тако с Феклою равноапостольною. в страдании, и в пустыни, сице с Галактионом и Епистимиею. в мире и в пустыни и в страдании, сице со инеми многшими святыми в писании поведаемыми. тако с Павлом Фивейским от гонения скрывшимся в пустыни. его же душу виде великий Антоний на небо со многою славою возносиму. тако в прообразовательном новому, ветхом законе выну вера со святыми в нужных случаех бе: сице со Иосифом во Египте. и со Ионою во чреве китове. с Манасиею в поле медяне: с пленеными израильтяны в Вавилоне, кроме жертв, кроме видимых церквей, тако с Даниилом в рове: и с треми отроки в пещи, иже тако с верою к Богу вопиющими: яко Владыко умалихомся. паче всех язык, и есмы смирени во всей земли днесь. грех ради наших и несть во время се князя ни пророка ни вожда. ни всесожжения, ни жертвы ни приношения, ни кадила, ни места еже пожрети пред Тобою, и изобрести милость но душею сокрушенною и духом смиренным да прияти будем. и ниже: яко несть студа уповающим на Тя. тем вресноту́ пророк глаголет. праведный от веры жив будет.
Аще же кроме церкви несть спасения: Златоуст же глаголет. церковь есть не стены и покров. но вера и житие: убо с верою правою. и добрым житием во всяко время и место, всякому есть спасение. Архиереи жидовстии по рапятии Христове. во церкви святая святых. кроме веры собирающеся не услышаеми бяху от Бога: Петру от них связану в темнице. молитва от церкви. кроме видимей церкви. но в дому заключенном. прилежна бываемая. разрешенна учини Петра. осужденных показа архиереов, в Риме старом егда папы развращение в вере дерзнуша: от гонения их Антоний со мнихи крыяхуся в пустыни но егда к гонению гонение приложиша тыя разгнаша. Антоний един тогда бывает каменноселенный житель безхрамный обитатель. безкровный населник, гонимый веры святыя исповедник, безгласный гласа светлейший, папежскаго развращения обличитель, и папа убо в каменнотворных и златосияющих храмех. с высокими архиерейства их чиньми. в церквах их идеже безчисленная украшения. но паче всех красот. священнейшая тела преславную вселенней светилу. Петра и Павла опочивающа. тамо со звоны и происхожденьми высокими. и всенародными собрании, службы и молбы творяще: Антоний же един к единому, на едином камене. правоверною верою службу молитвенную приношаше: разстояние и борба бяше видимое дело. боряшеся един со многими, простый со архиереими, невежда противо хитроплетенных языков, немощный и бегун, противо тьмы народов, но что творит живый на высоких. и на смиренныя призираяй. обличает неправоверие премногих, со архиерейми. прославляет с правою верою единаго страдальца: повелевает возшумети морю чрез естество, да паче гласа шум его обличитель латином будет. помавает волнам восклокотати зелне. да зелны помощники правоверному борцу будут. претворяет камня тяжкое существо, легчайши корабля, послушнее словесных нечувственное показася. подлагает хребет море. подъемлет каменя яко корабля. вскачет нань камень яко пернатый, подъемлет на себе человека паче человека. воскипевающе скоростию волны скачуще. друга́ другой камень реюще: чудно видение ангел некий легчайш орла. каменноплаватель бывает: преносят моря. реки Нева, Волхов с радостию воспящают свои струи. отдают Нову Граду преестественна благовестника. обличителя латинскаго кривоверства, уяснителя и показателя российскаго правоверия. тако вера славящих ю прославляет. тако уничиживающих тую безчестных творит. тако не к чинам высоким ни к местам пресветлым, но к произволению благому привязана, и к правым законом церьковным припряжена, и в души словесной нетрудно вмещаема: по речению сосуда избранного: вы есте церкви Бога жива, якоже рече Бог. яко вселюся в них и похожу. сего ради вера при прочих добродетелех дивна и преславна, аще и болше тоя. и прочих. любовь по Павлу апостолу, благовествуется: ради неотстатия тоя. и в будущем веце: но вера мати всем добродетелем, и начало прочим есть. И толико подобает быти в нас велика, яко да будет согласна со апостолы, не отторжена от пророков, единомудрственна со святыми соборы: единопроповедателна со духи всеми праведными, и толико опасно хранима, яко несообщателна противоверным отлучательна от раздорных, и тоя непокорных, отгребателна же от мерзских дел беззаконных. понеже вера без добрых дел, мертва есть, не тая соборная иже во всех святых, присно жива пребывающая: но отлучившися от оноя. ради скверных вожделений, тоя души, вера мертва бывает. тем же и толико нужная нам правая вера. яко без нея нам спастися, по святому писанию невозможно. якоже солнце вознесшися на высоту в весненное время. всю вселенную обзирает зрачнейше; зиму прогоняет, мразовы изничтожает, землю беззрачну и безплодну, яко жену стару и преко́рчену. снежными грудами; паки младообразну, и благоплодну показует, цветы изукрашену плодами обагащену: отдаст воды удо́лиям. быстрины рекам, корабли морю. плавателя водам, земледелатели нивам. тако вера аще где в высоту небесную взыдет. и небо вознесется, и яко второе равноденьствие. равносогласие со святыми покажет; тогда зловерие зимное безчиние проженется. мразове ересей изничтожаются. снеги грехов и беззаконий. от лучь светлости тоя истают. души правоверныя красотою боговидения возцветают, и плодами добродетелей обогащени покажутся, тем понеже праведный от веры жив будет: а вера без дел мертва есть: нужда правоверному. в правоверии правоверная дела делати: да от правоверия правоверно делателей праведный покажется: и от правды живаго правоверия жив будет безсмертно. аще ли же понеже вера добрая доброе же зави́димо, завидимое же ратуется. ратуемое же с терпением хранится. не того ради верному. понеже терпети. веры добрыя отставати: аще не хощет безверный или зловерный быти. ибо Спас во евангелии, на сие нас правоверных избирая рече, ну́жно царствие небесное и нужницы восхищают е. аще бо погании языцы, о безбожных и мерских своих верах, тако стоят: тако от законов своих отстати не хотят тако вне красоты безбожия валя́тися ну́дятся: яко ини ратовати на христиан. со многими нуждьми, и ратными скорбьми и смертьми. понуждаваются. Яко же моамефяне угождающе скверно преданию Моамефа творят: инии же яко зверие дивии посреде зверей живут нужно безсловествуют, якоже самоядцы вотяки, вогуличи и прочии степнии татарове: бедственно бедственную жизнь живут, и живут да вечно окаяннии в преисподней тьме вечно бедствуют. тако и от еретик прельщении християне, в новопреданных их развратах, толико укрепляются, яко мнят и проповедают кождо их свое согласие, паче всех законов на земли добрейше быти. то кольми паче нам христианом правоверным. не за скверныя языческия законы, не за еретическая новодерзостная предания: но за чистую веру православную, веру евангельскую, веру апостольскую, соборную отеческую веру святыми содержимую. и до нас обычаем и писанием дошедшую, веру держащих ю соблюдательно спасающую, и живота вечнаго сподобляющую: должно мужественно стояти, и стояти не телеса чуждая низлагати. но самем в терпении и нуждах богорадных себе не ослабевати вражия бесовския советы попирати, страстная похотения побеждати, грехи изничтожати. не радоватися в пространствах в покои, в богатьстве кроме веры: не низпадати в нищете, в скорбех, гонениих с верою православною. Сице убо о православное сословие, слово показует како праведный от веры жив будет: согласно сему многа наказания. многи образы во святых книгах имеем. слышавше же возрадуемся о славе веры. возвеселимся о богатстве ея. возторжествуем о тоя силе непобедимой. о красоте величества ея. возъусердствуем, возлюбим с нею быти и в ней, яже нищих безсмертнаго богатьства сподобляющую, и безродных небеснаго благородия достойных быти творящую. покажем всяко тщание. да придержимся православнаго тоя благолепия. стяжем в сердцы нашем присно к Богу сию веру теплую, веру на небеси у Христа пребывающую, веру в вышнем Иеросалиме, по улицам града небеснаго выну ликующую, веру со святыми согласную, согреваем тую присно писанием и молитвами, и песньми церковными, совокупим к ней надежду и любовь, от нея никогда неотлучающияся, украсим и теплу ю творим добродетельною светлостию. не обесчестим, злыми делы тоя благородия: в гневе зависти и во мнении, не помрачим душ своих, излишними стязаньми и испытаньми не сволнуемся, раздорами и спорами не раздерем благоверия соединения, не променяем славы тоя вечныя на временную славу, светлости тоя безконечныя на тленную красоту, богатьства тоя неоценяемаго на малоденное гниющее богатьство, сладости ея небесныя на скверныя похоти. Но в мире и любве и соединении и во отеческих преданиих пребудем, в посте и молитвах терпяще чисто тою воздержанием, и смирением украшающеся: благодатию, милосердием, безгневием, и благотворением благолепотствующе в гонениих и нуждах и скорбех терпением текуще. взирающе на начальника и совершителя вере Исуса.
Ему же Христу истинному Сыну Божию слава, со Отцем и со Святым Духом. во вся веки аминь.
Собрание от церковной истории, древлеправославных християн, именуемых федосеевых и филипповых
Собрание от церковной истории, древлеправославных християн, именуемых федосеевых и филипповых: и о их некоем междуусобном несогласии
Оглавление книги сея
- Вступление
- Предисловие
- О житии и деянии отца Феодосия Васильевича
- О мирных соединениях феодосеевых со старопоморцы и филипповыми
- О степени отеческой феодосеевых християн, Московских и Новгородских стран от последних благочестивых священнопастырей и их преемников: страдавших за древнее благочестие, иноков и простых, правящих духовными делами, между коими был отец Феодосий Васильевич
- О уставех богослужебных хранимых нашею церковью в Московско-Преображенской обители
- О филипповых християнах и о их первоначальном предводителе старце Филиппе и его деяниях
- Изследование о миротворных соединениях последователей старца Филиппа
- О степени отеческой филипповскаго общества: Поморских Московских и прочих стран и о их деяниях
- О обрядех и уставех соборных и келейных филипповских християн
- Числение священных книг и християнских рукописей
Вступление
Благочестивому и в писаниях люботщательному читателю о Господе радоватися, здравствовати и умудрятися. [книга о вере]
Бысть глад крепок на стране той. С божественным же пророком Иеремием к плачу преклонився, и сия словеса привожу яко по апостольскому гласу [Апостол зач. 295], в сии лютыя времена настоит повсюду глад крепок, ни телесныя пищи оскудение, но любви между християны до конца изсякновение. Яко же правыя веры списатель сказует: зде Христа словеса православный читателю исполнися, иже в божественном Евангелии описаны суть, и за умножение беззакония изсякнет любы многих. [книга о вере, гл. 23, лист 215]
Понеже бо в нынешнее многомятежное и плача достойное время зряще Церковь Христову, отовсюду различных ветров волнением, колеблему, и многих от нас разслабленных душами, и не твердых верою, в прелести и междуусобныя вражды уклоняющихся. [Кирилова книга, гл. 35, лист 311].
Всем хотя подвигнутися сболезновах якой вещи велицей аще и ума нищетою одержим, но обаче по отеческому благословению, и по братскому соизволению касаюсь сего изложения, упование и надежду на единаго всемогущаго Бога возложив, могущаго и не мудрыя умудрити. [книга о вере, лист 2, на обороте]
По сей причине благоволих малейшую часть от истории церковной и внешней, с разъяснением от святаго писания, о разногласии нашем с филипповыми, книжицу сию написать.
Первие же должно есть и о сем воспомянути кия ради вины християнская вера во многия ереси сечется паче неже иныя, ибо по святому Афанасию [от вопросов князя Антиоха, ко Афанасию Великому]: Яко сопротивна диаволу; Кая бо рцы ми печаль и попечение сатане июдея, или самариты, или еллины ратовати, или разделити во ереси и веры различныя, вся бо тыя того́вы суть, и никакоже сатана своих ратует, но Божиих.
Мы же последних сих дней по предсказанию апостольскому страстьми и сластьми объятыя человецы вельми немощны силою духовною, еже бы возмощи́ и стати нам противу козней диявольских. Мы же своею леностию и злыми своими обычаи еже есть самолюбием, величанием, гордостию, хулением, непримирением, некротостию, возношением, наглостию, к сим же и прочими страстьми побеждени в рабство душепагубному врагу предаемся, что же есть вина сему, по гласу того же апостола [Апост. зач. 295] яко же он сказует: будут бо рече в последния (времена) дни человецы сластолюбцы паче нежели боголюбцы.
Сия то исконная сластолюбная страсть праотца нашего эдемския породы отлучи, и от того время многия вражды между человеки учини, откуду рече апостол брани и свары в вас: не отсюду ли от сластей ваших воюющих во удех ваших [Апост. зач. 55]. Ибо добре ведомо всем, яко у нас с филипповыми християны по апостольскому гласу, един Бог, едина вера, едино крещение, едино есть в приличие последняго время таинств церковных содержаний, такожде едино в сообразность простолюдину и богослужебное молитвословие, разве точию малаго некоего различия в поклонех и некиих обычаях, каковыя случались и в первобытной православной церкви, но распри и раздоров за то не чинили, но даже и в правилех святии отцы положили, чтобы каждой стране последовать обычаем своея Патриархии или Митрополии. Но есть ли же по Божию попущению происходили когда какия между християны разногласии, и егда до суда церковнаго доходили, тогда святии отцы по правилом оное дело судили и кои тому суду повиновахуся, тии паки к церкви примиряхуся, а иже в своих мнениях упорне стояху, тех церковнаго общения отлучаху.
Согласно оныя первобытныя церкве, и наши предводители духовныя, Поморския, Новгородския и Московския, когда какия либо междуусобныя разногласии обретаху, тогда всячески к соединению и к согласию приводити тщахуся, что милостию Божиею и успеваху, якоже бысть в лето 7235{1727} некое разногласие между поморскими и новгородскими християны в единомыслие приведеся.
Такожде в последствии в Петербурге и Москве християны федосеевы со старопоморцами и филипповыми, некая междуусобныя стропо́тства от среды своея отринуша, и во едино стадо соединишася, и единому Пастырю Христу во всяком единомыслии последоваша, неции же от именуемых филипповых, оному благопохвальному мирному соединению не последоваша, кои и по днесь во враждебном духе к феодосеевым пребывают, и всякими пороки их поношают, себя же в духе фарисейском вельми восхваляют. Мы же желающе правость и истину показати, сего ради и потщахомся хотя мало от церковныя истории собрати первое о жизни и деяниях первобытных отец наших, начиная от Феодосия Васильевича и инока Филиппа, понеже последователи его, при каждом разглагольствовании, отца Феодосия Васильевича и его последователей порицают и вне церкви познавают, свои же и своих учителей недостатки умалчивают.
И мы вожделехом, дабы каждый любящий истину внимательне сие историческое избрание прочитал, и правдивых с виновными различал. Того ради историческое собрание сие в восьми главах чинно изложихом: из коих первая показует о житии и деяниях отца нашего Феодосия Васильевича; вторая являет о мирных соединениях феодосеевых со старопоморцы; третия извествует о степени отеческой феодосеевых християн и о их деяниях; четвертая изъявляет о содержании обрядов и обычаях християнских, и уставах богослужебных. Последующии же четыре главы в том же виде изложены о филипповом согласии, как о первоначальном их учителе старце Филиппе, такожде и о деянии его последователей, а потому для лучшаго соображения и предлагаем читателям по прочтении 1-й главы, о житии Феодосия Васильевича, читать пятую главу, коя повествует о житии старца Филиппа. А после второй, о миротворствах, чести шестую, коя показует о недостатках онаго, так и последующии шесть, одну противу другой.
Сие предлагаем для удобности понятия, тех и других деяний. Впрочем, каждому на произволение оставляем, но точию на заключение сие изъявляем, яко собравшим нам сие изложение, кое мы по недостаточности и грубости ума нашего; за существительную историю и повесть не познаваем, но черновых материалов для истории именование полагаем, и могущему пополнити и наши недостатки исправити, и существительную историю составити, всеусердно желаем, а в наших недоумительностях и погрешностях великодушнаго прощения испрашиваем.
Многогрешныи Чеомчий Лыпъ Иятошсешъ, и с прочими.
Вологодской области, Тотемских пределов.
Возлюбленная о Христе братия, со всеми окрест вас населенными, от мала и до велика. Любящими правость истиннаго евангельскаго пути, не блазненно же и крепко предков наших старопоморских: Польских, Московских, Новгородских и Заволгских благочестивых и целомудренных положениев держащими и с нами, Московско-Преображенскими християны мирствующими, о Господе Радоватися.
Предисловие
Сего минувшаго лета, прибыл к нам посланный от вашего общества, человек: Прокофий Герасимов, и доставил нам более пятидесяти вопросов. Из коих первыя содержут разум притязательный на нашу православную церковь, от филипповых християн, а последния недоумительныя в некоторых духовных действиях. О чем и просите нас, пояснить вам, как о различии верований и обрядов церковных между нас с филипповыми, такожде и духовных делах требуете правильнаго разсмотрения и подтверждения. И мы в силу апостольскаго речения, повелевающаго: друг друга тяготы носити (Апост. зач. 213), призвавше Господа Бога в помощь: со упованием на ваши братския святыя молитвы, приступаем к возответствию, кое по преподобному Никону начинаем чинити, со свидетельством от божественнаго писания, и от отеческаго обычая, и от внешних повествований (Преп. Никон Черныя Горы, слово 18). Ибо по писанному от враг свидетельство вернее бывает (Толковое Евангелие на Марка, зач. 19, лист 58). Во особенности за настоящую нужду, мало имеется у нас, не точию печатных, но даже и рукописных исторических свидетельств, о минувших бедствиях церковных, произшедших в последних двух столетиях. А если что и было, то все насильственно перешло в руки инославных, и они, хотя с подмесом некоторыя злобы, однако издали печатно наши материалы, коими пользуются многия от благоразумных. Тако и Апостол повелевает: Вся, рече, испытующе, добрая же содержите (Апост., зач. 273). Тако и мы будем заимствоваться от внешних писателей. Аще что будет к подтверждению истины, то изберем, но аще ли же что речено ими по ревности или по неведению несправедливо, то оставим. Ведомо же буди вам и сие, яко подобных вопрошаний и разногласий нашем с филипповыми християны бывает нимало. Понеже неции от них: имуще ревность, но не по разуму, а друзии по излишнему невежеству, а третии по славолюбной надменности, весма жестокими словесы, яко камением тяжким мещут на древлеправославную гонимую и бедствующую церковь, и нас верных сынов облагают злыми пороки по вере и жизни, и даже не признают нам спасенным быти. О таковых вправду изрече святый боговидец Моисей (Второзак., гл. 32): Сии людие буи и немудри, роде строптивый и развращеный, сия ли Господеви воздаете; яко единообразнаго от рождения духовнаго, единыя матере святыя купели, и истинных сынов света, раскольниками еретиками, и даже вне церкве признаете (Книга Соборных филипповских деяний, лист 122). К таковым по псалмопевцу потребно есть рещи: Разумейте же безумнии в людех, и буии некогда умудритеся (Пс. 93, стих 8). Но аще ли же по темноте ума вашего не познаете, то послушайте пророка учащаго: Вопроси, рече, отцы твоя и возвестят тебе старцы твоя и рекут ти (Песнь Моисея, 2). Ваших глаголю вопросите первобытных старец. Како они разумели о християнах именуемых федосеевых. О сем являют нам современныя их рукописи бывшия в миротворных соединениях в лето 7299 [1791], 7312 [1804] (Отеческия завещания, гл. 11 и 32). В коих прекращали разъединявшия их какия либо разногласии и разномыслия единою братскою любовию, и заключали то прощением друг друга, при положении точию седмипоклоннаго начала. Так и в настоящее время есть более благоразумныя члены вашего общества, кои в духе своих предков, признают себя весма с нами близкими, как по содержанию древлеправославнаго церковнаго закона, также и по исповеданию истинныя христианския веры. Почему и имеют сердечное сострадание о состоящем разъединении. И тщатся по возможности преподавать свое согласие к мирному соединению. К чему и приступали на самом деле, в лето 7353 [1845], 7370 [1862] и 7384 [1876]. Что и видно из обоюдных писем их миротворное желание, кое они по примеру своих предков, и желали тоже заключить мирное соединение, точию положением миротворнаго начала. И еще подобное сему есть доброе деяние, некоторых любителей мира, духовных правителей филипповых християн, кои присоединяющихся к ним по какому либо случаю от федосеевых, приемлют овогда с малою епитемьею, а иногда и с единем началом [Гладина Прикащика Федора Семенова приняли в Москве и в Петербурге с началом, 7368 (1860)]. И злобных порицаний на нас, федосеевых християн, не произносят, и егда в домы наша или в молитвенныя храмы входят, святым иконам поклоняются, и с нами здравствуются и прощаются, и в кротости духа сознают себя пред Богом грешными, и пред человеки смиренными. И церковное свое состояние, по настоящему сему злобному времени, признают в бедствии и разстройстве, и глаголют: яко у нас де при каждом собрании у духовных правителей излагаются новыя правила, чрез что и происходят впоследствии друг на друга укоризны, и даже самыя душепагубныя разделы (Кимрскаго инока А. М.). И тако собравши на вид хотя несколько благоразумных и неразумных мыслей и речений изходящих из уст филипповских учителей вдадим их на правосудие Божие. Яко же Он сам научает нас: Не судите, рече, на лица, но праведный суд судите [Иоанн., зач. 26]. В силу таковых божественных повелений, мы, последнейшии, признали за необходимость сказать сущую истину, то есть пояснить первобытную историю християн, находящихся под наименованием федосеевых и филипповых. Для чего и приводим на среду несколько от жития, деяния и учения онех наставников, сиречь словущаго отца Феодосия Васильевича и инока Филиппа. Да негли́ тем при помощи Божией дадим премудрым вину и премудрие будет, скажем праведным и приложат приима́ти, и возмогут доброе от злаго отделяти, и престанут святую церковь порицати [Притч. Соломона, гл. 9, стих 9].
От зде и начинаем первие о житии отца Феодосия Васильевича писати. Яко же выше явихом от християнских и от внешних историй.
Глава 1
О житии отца Феодосия Васильевича
[Житейник поморскаго писма, отца Феодосия Васильевича; Изборник Попова, т. 3, стр. 1]
Сей убо преславный и досточюдный учитель Феодосий родство свое ведый от прадеда и деда, и прочих по роду восходящих, благородных Усовых дворян, или Урусовых, в царствующем граде Москве жительствующих. По разорении же московском от поляков, дед его именем Евстратий пойде убо той в Великий Нов-град и поселися в селе Морозовичах. Любяше убо зело церковное благолепие и премного искусен бяше чтению и пению церковному. За благий же его разум любяху его ту живущии насельницы. Он же законом брака жену поем и дети с нею породи. От них же един бе сын его именем Василий. Родитель блаженнаго Феодосия, иже рукоположен бысть во иереи в Крестецкий Ям, в церкве святителя Никиты, новгородскаго чюдотворца. И во время никониянскаго смущения церковнаго, аще и зело скорбяще о сем, но страхом бывшим тогда от мучителей одержим не отъиде от новозаконныя церкве. Обаче держащих святыя древлецерковная законы не гоняше, но усердне всячески покрываше и соблюдаше, ту и со отцем своим умре, оставив три сыны в юности сущия. От них же первый бе Феодосий. О нем же нам слово. Людие же того села любовию к Феодосию содержими, просиша новгородскаго митрополита, дабы рукоположил им онаго на отцево место попом. Но за младость сущию тогда Феодосиеву поставлен бысть на время диаком. И он исперва ревнуя по Никоновых новопреданиях начат жесток являтися ко отставшим за тая от церкве.
Егда же Божиею всещедрою благодатию коснувшеюся сердцу его, и от некиих боголюбивых мужей услышав о бывшем пременении, готову ниву имея разума благаго своего к приятию таковых семян, позна абие древнее святое Апостольское церкве благочестие. Вскоре потому в собрании всего народа диячества отречеся, и от некоих правоверных християн прият святое крещение, и наречен бысть Дионисий. Такожде и все семейство его крестишася, и оставльше дом свой во иное село отъидоша, тамо в безмолвии живуще работаху Богу. Бяше бо Феодосий ума скоропостижнаго, смысла многоплоднаго, памяти крепкия и разсуждения великаго. Восприят ревностное тщание о обращении и спасении человеком. Еще же и от других духовных мужей, усмотревших преизобилия сущих в нем разума и в святем писании искуство, понужден быв на сие дело [Андрея Охтинскаго, стр. 91]. Начат проходити страны, грады, веси и села, не точию в России сущея, но в немецких и польских владениях лежащих, и учити живущия в них народы, апостольски благовествуя, наставляя и приводя к свету древлесодержаннаго святыми отцы благочестия. Тем же О! колико множество человеков к закону истиннаго православия направи, коликия народы от еретических новозлохитрств исторже и на путь отеческих спасенных заповедей настави, их же числу предати весма невозможно. Более же великия подвиги его были противу отметников благочестия и лжебратии. От них же первый: Иван Коломенский, иже со страдальцами со священноиноком Варлаамом и со Иоанном Дементьевым в согласии бе, потом же сам совратися в новизны и многих с собою отведе от древняго благочестия [Андрей Охтинский, стр. 92]. Отец Феодосий с ними соборне разглагольствие о благочестии имел и от святаго писания овех препрев посрами, а других паки к православию обрати [Житейник Феодосия Вас.]. Но убо и вторый подвиг блаженному учителю Феодосию, не менее перваго, противу сих прииде, иже во единой вере и во едином согласии бяху духовнии люди, но житие зазорное имяху противу каноном: держаху убо при себе девиц, и жен, и сродниц, и чюжих сущих, и живяху с ними наедине. Откуду в таковых и явныя зазоры породишася. Сих учитель Феодосий изперва́ наедине моляшеся и наказоваше немало время, дабы от таковаго сожития исправилися. И егда не исправляхуся нача пред людми им о сем от святых правил предлагати, чтобы таковое зазорное житие отложили. Видя же онех не токмо не исправляющихся, но и ко́торы творящих велия, и по совету с прочими духовными, сотвори с ними разделение в молитвах и во всяком общении, яко же святый апостол Павел повелевает отлучатися от всякаго брата безчинно ходящаго, а не по преданию яже прияша от нас [Апост. зач. 277]. Людие же видяще учителя Феодосия непорочное житие и чистое в православии учение оставляше онех, присвоишася любовию к нему, славе же о учении его широко протекшей. Ибо не может град укрытися верху горы стоя, по Господню словеси: и славящаго мя рече, прославлю [Матф. Зач. 11]. Внуши бо ся о нем от многих начальствующим и архиереом, иже яко звери дивии на ярость подвизахуся, а наипаче великоновгородский Митрополит Иов, воздвиже гонение на правоверных. И аще кии от християн пойман и приведен к нему бываше, вопрошаше: кто вас научи от церкве нашея удалятися и таин наших совершаемых отлучатися. Убо от всех согласно учитель Феодосий предлагашеся. Больма же на ярость разжегся оный, посла искати прилежно его, паче же и сам с лютою жестокостию прибыв в Крестецкий Ям и его зельно на мучение искаше. Но учитель Феодосий мало прежде того поим матерь свою и сына, в польскую державу отъеха, в лето 7207 [1699]. Не мучения и смерти бояся сие сотвори, желателен убо зело бяше за древнее святоотеческое содержание усердно душу свою положити, но другим пользы и спасения желая, и Господню заповедь исполняя: аще рече, гонят вы во граде сем, бегайте во другии.
Тогда мнози от российских християн и от различных стран, и из соловецкаго монастыря, хранящии православие, с ним пойдоша [Отеческая степень, статья 13]. Он же состави тамо две обители, мужескую и женскую, наставляше их богоугодному житию по уставам иноческим. Собрася убо к нему во общее житие мужеска полу до шести сот, девиц и жен до седми сот. Слышаху убо дивнаго учителя Феодосия благое учение мнози от благородных боляр оставляху домы, высокия чести и поместья и крестьян своих, и прочая стяжания вся прихождаху во общее житие к нему и любезно повиновахуся ему. В них же бяху сии: Захарий Бедринской с сыном Хорионом, муж великих добродетелей исполнитель, премного искусен во святом писании; еще Стефан Валонский, сей в небытность отца Феодосия в службе молитвенней начинаше; Антоний Авраамов, муж духовный; Дмитрий Негановской; Герасим Злобин; Яков Хмелев; и прочия. Такожде и болярынь благородных немало, яже суть сии: Небаровых вдова и две сестры девицы; Волонских девица; Нееловых вдова со дщерию; и прочая. К тому же и от посажан градских мужей и жен, и девиц немалое число, иже любовию привязани бяху к словущему учителю Феодосию, и во обителех его трудолюбне подвизахуся. Сие подтверждают и внешнии историки, тако сказующе: что Феодосий привлек к себе ни одних людей простаго звания [Исторические очерки Андреева, стр. 152]. Пользуясь расположением многих значительных лиц. Яко и князь Меньщиков беседовал с ним о предметах веры, подобно многим другим боляром и дворяном того времени. Феодосию Васильеву сочювствовали господа Полонския; Шереметьев; генерал Артамаков, царский родственник; С. Т. Нарышкин; и прочия мнози: с ними же довольныя беседы и ни единократны бяху. И удивляхуся вси духовней благодати сущей в нем.
По сем иный подвиг случися отцу Феодосию. Бяху некоторыи християны беглющии никоновых новопреданий, иже поселишася на реце Выгу, в них же начальствующии быша: Даниил Викулин, Андрей и Симеон Дионисьевы и прочии, иже в первых величайших догматех мудрованием со отцем Феодосием и с прочими учители християнскими согласны бяху. Много в писании, изрядную ревность о чистом житии имяху, а в некиих вещех не согласно мудрствоваху, иже суть: о никонианских браках, о пищи от еретик строемой, и о надписании честных крестов, и прочая различия во обрядех и обычаях християнских имяху. По сему делу к ним во общее житие отец Феодосий с прочими учители християнскими ездив и соборне в Даниловом монастыре о вышеупомянутых несогласиях беседовав. Но однако по небытности Андрея и Симеона Дионисьевичев в единомыслие приити невозмогоша. Егда же прибывшу Андрею Дионисьевичу во общежительство, и о сем весма горестно опечалившуся, слышав нечинное в беседах разглагольство. Понеже неции от выговцев весма не чинно и со гневом разглагольствоваху, а един от них, именем Антоний, с яростию вопияша и в стол руками ударяше, и прочия нелепыя угрозы и поносы, не яко от мудрых, но яко от поселян невежествующих, многия быша, их же зде писати непотребно. Андрею, яко же рехом, не бывшу тогда; а Даниилу видящу таковую их нечинную буесть, со скорбию умолчавшу. Тогда учитель Феодосий и прочии, по многократном и различном увещании, видяще их к согласию не склоняющихся, общем согласием и прочих учителей християнских сотвори с ними на время разделение [от писма поморскаго наставника, Отеческие завещания, глава 54], и тако возвратися в польское державство во своя обители. И живущу ему тамо девять лет начаша утесняти его весма польския желнеры, то есть воины; во едино же время учиниша по монастырем великую стрельбу, и единаго от ученик его убиша, а иных раниша [Отеческая степень, глава 13].
В то время царствующу в России Петру I-му, гонению же на правоверных помалу утихающу, и древлецерковныя законы содержащии начаша свободнее жити, а наипаче в Копорских и Ямбургских пределех царским повелением от начальствующих крепко охраняеми бываху, и службы своя ко Господу Богу явно по старопечатных книгам исправляху, к которым мнози от высоких персон, яко и царевич Алексей Петрович, многократно прихождаше слышати пения и чтения. Слышав убо сия учитель Феодосий восхоте прейти оттуду в российскую державу. Тогда светлейший князь Меньщиков прият блаженнаго со всем братством и с прочими многочисленными християны под свое охранение и посели их в Великолуцком уезде, где устроиша тоже два общежительства. Но Божиим попущением случися тогда моровому поветрию быти, и во обоих обителех, мужеска полу и женска в будущую жизнь преселишася, но и еще отцу Феодосию дано бысть место, от того же князя Александра Меньщикова, на селение общежительства в Ряпиной Мызе. И пойде отец Феодосий в Великий Нов-град к вельможе Якову Корсакову, которому приказано было от Меньщикова отвести место население общежительства. Болярин же оный златолюбив сый, аще и довольныя дары от Феодосия прием, обаче продолжаше указы на преселение. Наконец предаде его новгородскому Митрополиту Иову, и его повелением отведоша во архиерейский приказ Феодосия и с его сыном Евстратием, и с прочими двема от их обители, цепи на шеи со стулием им возложиша. Отца же Феодосия отведоша в темницу под келию Митрополичью, томноты и праха исполнену, и ноги ему оковаша, а яже бяху с ним тех оставиша в приказе, и часто же вождаху его исперва к судии в приказ на истязание о православной вере. Зде вырвал ему полбороды некто по прозванию Сткляев. Егда же к Митрополиту страдальца привождаху, тогда оный увещаваше его, дабы отверглся древлецерковных святых законов и приял бы Никоново новодогматствования, в новопечатных книгах положенная, обещая ему, если послушает, богатьства, чести, возвышения, иерейство, архимандритство и архиерейство. Предивный же страдалец велеумно отвещеваше ему, глаголя: «Высокопочтенный Архиерее; како могу отврещися онех святоотеческих законов и прияти новопечатныя книги, сопротивныя во всем старопечатным. Понеже седмый вселенский собор и все священное писание прилагающих нечто или отъемлющих от церкве проклятию предает. Священный же апостол Павел, опасно зело укрепляя, глаголет: «Аще аз, или ангел с небесе, благовестит вам, паче еже приясте; анафема да будет» [Апост. зач. 199]. А святый Златоуст, сия протолкует: и не рече, аще противная возвестят, или превратят вся, но аще и худое что подвигнут, анафема да будет. И прочая таковая премножайшия святых великая запрещения, и грозныя анафемы на изменяющих святоцерковная содержания, и вносящих новизны, вредящими во святых книгах сих вельми. Боюся и ужасаюся. И аще убо сия вся ведая, отвергуся святоотеческих непорочных древлецерковных содержаний, и подпаду под соборныя святых тяжкия клятвы, которое начальство или власть, от земных, на страшном Христове судищи избавит мя от грозных онех и безконечных мук. Сия слышав архиерей не умилился над страдальцем, но прилагает мучении страшити его, начинает великими томлении ужасати до́бляго. Тогда предивный делом и произволением страдалец отрече ему сице: Высокопочтенный Архиерее; ведыи буди о сем, яко прещений ваших не страшуся, и мучений грозных не ужасаюся, еже хощете творити надо мною, немедля творити, ибо за древлецерковная святая вся отеческая содержания, о укрепляющем мя Христе, всякия муки, и жесточайшия томления страдати уготовихся. Таковыми и подобными сим словесы отвещеваше страдалец ко истязующему его архиерею. Яже зде за долготу слова, и краткость истории любяще оставихом, рцем же точию сие: яко по великом оном истязании, паки повеле архиерей заключити его во оной злосмрадной темнице, тамо в велицей нужде терпеливый страдалец всяким злострастием удручаем, четыре седмицы страдав, преселися в будущую жизнь, в лето 7219 [1711], месяца июля, 23 [Очерк Андреева, стр. 152].
Инии же глаголют: яко убиен бысть от самаго архиерея некою дскою. Сыну убо его и прочим не бывшим ту при смерти его, но инде заключенным. Тело же блаженнаго страдальца повелением митрополичьим слуги его из града извлекше в ров без гроба закопаша [Сборник Попова, том 1, стр. 17].
О сей страдальческой кончине, согласно, свидетельствую и новыя историки. Яко же сказует г. Андреев: Когда Феодосей Васильев, положась на содействие новгородского губернатора Корсакова в ходатайстве указа для преселения со обителию на Ряпину Мызу, явились по сему делу в Нов-град, сняв с себя медныя вериги и власяницу и отправился по своим делам, его схватили слуги новгородскаго архиерея, посадили в смрадную тюрьму, приковали в ней железною цепью к стене, допустили корабельнаго мастера Сткляева вырвать полбороды у заключеннаго, не согласившагося с ним в догматическом споре, и затем довели до мучительной смерти. Корсаков допустил все это сделать. Дозде от очерка [Краткий очерк Андреева, стр. 316].
Паки же от жития страдальца повествуется [Сборник Попова, том 3, стр. 18]: Яко во время кончины его случися тогда во граде един от ученик его, взем нощию трудолюбное тело от рова и погребе и тайно за пять поприщь от града, при реце Варяже. Егда же живущии во обители его восхотеша принести страдальческое тело во свою ему обитель, тоже нощию тайно выкопаша тело его, лежащие в водяном месте более четырех месяцев, цело и нетленно обретеся. Абие обрадовася зело и любезно вземше везяху тое в Ряпину Мызу, и в память святителя Николы, декабря, в 6-й день, с погребальными псалмами и песньми, честне погребоша е паки в земли, на брезе Выбовке реки, в Ряпине Мызе. По навету же новозаконных архиерей, и некиих отступников православия ненавистными клеветами, сердце Монархово на ярость сподвигоша, и он повеле юрьевскому воеводе воинство в Ряпину Мызу послати и во обители сущих начальников, такожде и по селам духовных, по реестру имяны более 20 человек взяти и в Петербург на истязание привести, и на муки отдати. И егда услыша таковое повеление они разыдошася кииждо где знаяше, храняще себе от гонительских рук.
Дозде краткое объяснение о житии, страдании и кончине словущаго отца и учителя Феодосия Васильевича и о обителех его. О ученицех же его поведано будет в приличных местех, мы зде не обинуяся глаголахом о отце и учителе Феодосии Васильевиче. Пояснихом вся добрая его пред Богом и человеки деяния. Не умолчахом такожде и о некоторых действиях его подлежащих сомнению и подозрению от некиих малоразумных человек. Того ради и потщахомся в нижеследующей главе пояснить на словущаго отца и учителя Феодосия Васильевича.
Глава 2
О мирных соединениях со старопоморцами
Вины и подозрения и укоризны возводимыя, как на учительнаго отца и страдальца Феодосия Васильевича, такожде и на последователей его происходят более от неразумной ревности, самомудрых и величавых человек, наводяще великия вины по собственному самомнению, как на скончавшихся предков наших, такожде и на содержащих их учения. А потому мы желающе отвести таковых от тяжкаго прегрешения, еже мертвых и живых осуждения, поставим зде на вид вину их претыкания. А именно: Первейшею и великую виною поставляют наветницы раздел Феодосия Васильевича с поморяны, бывший в 7214-м [1706] году. Какими же средствами возможно будет более разъяснить таковое пререкание. Мы не находим удобнее предложить любящим истину и желающим праваго познания, еже бы в таковом деле восприять мерило правосудия, сиречь вышшее в добродетелех святое разсуждение. Ибо святии отцы, паче всех добродетелей предпочтоша разум и разсуждение [Альфа, гл. 61]. Святый Златоуст глаголет: «Не убо просте вещь истязуем, но и время, и вину, и изволение, и лиц различие, и елико убо им иная случаются, вся со опасением да взыскуем, ниже бо есть инако достигнути истины» [Беседы Евангельские на Матфея. Нравоучение 17]. А потому и просим, любящих мир, и желающих о Христе братскаго единства, возвести мысленное око на событие и время, в коем был отец Феодосий Васильевич, и обозрет безпристрастно тогдашния гонительныя обстоятельства, о коих сам Спаситель предсказал: яко не быти таковым от начала и до скончания мира [Матф. Зач. 99]. Такожде и списатель правыя веры сказует: «Аще, рече, кто тех времен, сиречь 1666-го года, достигнет, таковый да уготовится с самим дияволом на брань» [Книга о Вере, гл. 30, лист 271]. Сии предсказании ясно зрятся нам от истории, что гонение и мучение в самой полной силе, на содержателей древняго православия, началось у нас от указанного года, когда не было возможности содержателем онаго, не точию в своих домех проживати, но даже и нигде в пределах России. А потому хранящии истину и должни были спасать свою жизнь бегством, как в лесах и пустынях своего отечества, так и за пределами онаго. Желающий же в подробностях ведать о сем да прочтут християнския истории «О бегствующем священстве», и «Российский виноград», тамо ясно узрит жестокия казни и самыя мучительныя смерти наводимыя от новолюбцев содержателем православия. О сем подтверждают и внешния историки: «Что их истребляли в срубах, отравляли в сырых зелях, тюрьмах, рубили головы по плечи, зарывали живых в землю, резали языки, и прочая» [Предисловие к 3-й челобитной Кожанчикова, печатная].
В таковых то будучи горестных обстоятельствах наши первобытныя наставники и учители еще несравненно болие того предстояла великая скорбь, во очию всех тогда благоразумных. Что церковный чювственный корабль разбит был ужасными волнами нововымышленнаго никонианскаго учения, и множество пловцев и гребцев, и даже самыя кормчия пострадаша, истопления духовная [Торжественник, слово на Воздвижение]. Божиими же неизреченными судьбами, аще и спасени тогда быша некоторыя от сынов оныя гонимыя жены, от змиева потопления [Апокалип., гл. 12], но обаче в великом бедствии осташася, яко же то без видимых благолепий и чиноположений церковных, и вместо седми таинств ея, точию при двух самонужнейших. И вместо руководства людей священных, и всякаго чиноначалия духовнаго, начаша окормлятися и руководствоватися простыми и не освященными. И кто же будет столь жесток и немилосерд, еже злобно нападати на учительных людей, тогдашних лютых времен. О каковых либо неблагоустройствах и разномыслиях, могущих возникнуть тогда, в христианской церкве [Апостол, зач. 295]. О сем надлежит разсматривать, яко же выше рехом, с великим разсуждением, и со страхом Божиим, дабы в чем не погрешить. А не так, как ныне нецыи, от филипповых християн опрометчиво и дерзско отзываются о отце Феодосии Васильевиче, ибо имущии ум могут видеть, и разуметь, и из церковной истории.
Что в первобытныя времена, по Божию попущению, в християнской церкве случались подобныя сему неблагоустройныя произшествия. Как-то в первенствующей християнской церкве, более 200 лет, даже до 1-го Собора Вселенскаго, происходило несогласие, и распрение о времени празднования святыя Пасхи. Причем в продолжении тех времен случалось, что одни других за несогласие отлучали от церкве. О сем смотри в книге О Вере, около двухсотаго листа. Но после, когда по милости Божией, все таковыя несогласия, на 1-ом Соборе Вселенском, приведены в единомыслие и согласие [Барония, в лето Господне, 878]. Тогда святии отцы все прежде бывшие в прошедшие время несогласия и распрения предали вечному забвению, и ни каким раскольным именованием не порекли. Так же и прежде усопших, с обеих сторон и в том несогласии скончавшихся, ни каковаго осудительнаго не зделали исключения.
Подобно тому и в последующия времена в християнской церкви случались таковы же произшествии, о подробности коих умолчаваем для краткости. О прочих упомянем только о отлучении преподобнаго отца Феодора Студита, прежде от Цареградскаго патриарха Тарасия за беззаконный брак Константина царя. И потом он же купно с братом своим Иосифом, Архиепископом Фессалонитским, имел отлучение от Константинопольскаго патриарха Никифора за приятие в церковь изверженнаго презвитера Иосифа. После таковых отлучений, когда милостию Божиею все оные неустройства прекратились и установился мир церковный, тогда ни святыя патриархи преподобнаго Феодора с братом Иосифом и с прочими живущими, и во время того разделения скончавшихся християн, раскольниками не порицали [Четия, ноября 11. Барония, лето Господне 795, там же Лето Господне 806 и 808]. Как мы замечаем из истории, ни преподобный Феодор Студит с братом, патриархов Тарасия и Никифора ни каким раскольным наименованием не облагали. Но с прекращением причин разделения прекратили и самое оное разделение и в прежнем мире и любви навсегда остались.
Сему же согласует и бывшее распрение между християны за учение триех вселенских учителей, когда же сии святии иерарси явлением своим умиротворили церковь, то не видится в истории церковной, чтобы после друг друга первобытными винами укоряли и поношали [Пролог, генварь 30].
Наконец нужным почитаем упомянуть о достопримечательном произшествии, случившимся в константинопольской и прочих церквах, по причине 4-го брака Леона царя, отчего произошел между християны неблагополучный раздор и продолжался 90 лет. Но когда по милости Божией таковый раздор тщанием святых отец на Соборе Соединения был прекращен, тогда, как видится, святии отцы руководствуясь любовию Божиею, как живых так и усопших, даже самых виновников раздора, ни каковым раскольным именованием не осудили, и не порекли, но живым возгласили многая лета, а усопшим вечная память.
И наши достопочтенные предки, как поморския такожде и новгородския, соображаясь с таковыми миротворными примерами, бывшее временное между ними разделение расколом именовать не дерзали. Потому что, по милости Божией, через краткое время оное бывшее между ними разногласие начало приводитися в единомысленное соглашение, и потом как оное временное разделение прекращено, так и причины онаго разделения.
Зде мы признаем за нужное и о наших миротворствах, хотя вкратце, привести во свидетельство самыя те случаи, и указать времена и лета, и личностей оных, коими соделовалось миротворное соединение, и кое о том свидетельствуют. Перваго приводим от поморския обители настоятеля: Тимофея Андреева, коему хорошо была известна история первобытных поморских отцев, хотя он сам уже и не вполне содержал тех предания, а именно в молитвословии инославных и в самобрачии. Для нас в том нет препятствия, понеже по писанному: от посторонних и от враждебных свидетельство достовернейшее бывает. А потому и приводим от писма его следующее, о мирном соединении. Как он пишет в Москву, в начале приводит то, егда в небытность Андрея Дионисьевича, яко же выше во главе 1-ой явихом, 7214 [1706] году Феодосий Васильевич с поморскими общежители сотворил разделение. Егда же прибывшу Андрею Дионисьевичу во общежительство, и о сем весьма горестно опечалившуся, слышав нечинное в беседе произшедшее распрение, о чесом подвигнувся сам в Нов-град ехать. После того временнаго разделения два года прошедше, т. е. в 7216 [1708], и тамо с Феодосием Васильевичем всякое согласие имел, и вкупе с ним и службу Богу приносил. Второе же примирение было уже в 7235 [1728] году, по кончине Феодосия Васильевича. От Московскаго общества первый предводитель, Игнатий Трофимович, ездил в поморье купно с Федором Калинычем, Даниловской страны настоятелем, и тамо прилучившемуся Андрею Дионисьевичу мирное совокупление сотворися [Християнская история, избор. Попова, стр. 28, том 3]. А о титле еже на крестах на время оставиша до разсмотрения. Во обычаях же богослужебных коемуждо на своих положениях оставлено. Что бы друг с другом распри и разделения в том не имети. Дозде из писма Т. А.
Тако на сем миротворнем соборе поморския и наши отцы, яко же выше явихом, определили: чтобы до обыскания крестам Господним с четыребуквенными титлами поклонятися без зазрения, и друг друга за то не отлучатися. Каковое обыскание у наших предков продолжалось много время, даже до лет Московскаго отца Ильи Ивановича.
Следовательно как самаго отца Феодосия Васильевича, так и прочих отцев и братию в согласии с ним в продолжении того времени скончавшихся за содержание титлы и за прочия обычаи осуждать не долженствует. В сем мирном расположении скончались отцы, Андрей Дионисьевич, в лето 7238 [1730], и отец Даниил Викулович, в лето 7242 [1734]. И посем, в лето 7244 [1736], паки Игнатий Трофимыч, по согласию с Федором Калинычем, и с Московским Максимом Марковичем ездили в поморский монастырь, для собрания свидетельств о титле, и поморския отцы разъяснили ему о правильном надписании крестов. И он свои доказательства, заимствованныя от поповщины, предал огню, и поморским отцам принес покорность и прощение. Но однако отъехавши из поморья по некоторым причинам общественнаго соглашения он на то привести не возмог до лета 7254 [1746]. В сем же году были в Москве поморския отцы: Даниил Матвеевич и прочия, и согласясь с Игнатием Трофимычем и с его товарищи, производили тщательное обозрение о сущности надписей на древних крестах, и убеждаясь более крестом царя Константина, находящемся в Московско-Успенском соборе, и по оном освидетельствовании согласишася с обоих стран собору быти и на нем своему раздору, еже о титле, решение учинити. И собрашася в Преображенское, в дом некоего Сергея Мартынова, ту совершенное единомыслие о надписании честных крестов. Еже Исус Христос, Царь Славы, писати утвердиша.
Из сих отеческих миротворных соединений замечается, что тогда отцы наши, кроме всякаго пристрастия враждебнаго мнения, руководствовались истинною християнскою любовию и мирным расположением, на основании коих мир между собою учинили, причем, как замечается, никаких друг над другом взысканий и истязаний о прежде бывших неустройствах и разногласиях не произвели. И как видно из их миротворных писем что никакими епитемиями друг друга не облагали, но заключали мирный союз, точию седмипоклонным началом и братолюбным прощением. И отца Феодосия Васильевича, и с прочими усопшими предками никаким раскольным именованием не порекли, но напротив определили, чтоб никому их за преждебывшее разногласие не осуждать. Потому что поморские отцы: Даниил Викулыч и Андрей Дионисыч, и прочия современники и собеседники были отца Феодосия Васильевича, и добре ведали его, и знали его веру и любовь к Богу. Знали его добродетельное житие, знали его страдальческую кончину, о которой в прозбе к царю, Петру Алексеевичу, в лето 7222 [1714], засвидетельствовали. Знали текже и ревностный его порыв в произведении с ними временнаго разделения; и зная все сие, они, однако, никаковаго об нем жестокаго суждения не имели, и от сообщения как с ним, так и с его преемниками, не отлучались. О чесом свидетельствует вышеупомянутый Тимофей Андреевич, в письме своем к стародубскому отцу, Петру Федоровичу, в котором между прочим пишет: «Но и котории приезжаху в монастырь от феодосиевых, после раздела их, разделения не имеяху с ними» [Ответ М. В. Стукачева к филипповым]. Свидетель сему [Отеческ. Завещан. Глава 51]: Симеон Яковлевич Новгородский; егда после разорения Ряпинскаго общежительства приехали в поморский монастырь, то отцы не точию с ними общатися не восхотели, но и блаженный отец Даниил Викулыч, яко весма достойному, некиих духовных детей ему относити своя деяния вручи, и так богоугодно пожив преставися, и погребен бысть на Лексе, в женском пределе, яко их отец духовный. Иван же Филипович, поморский настоятель, описуя житие его и действие в духовных правлениях подобит его во всем отцу Даниилу Викуловичу. И прочии мнози или паче рещи безчисленныи приходяще от федосеевых, яко же до раздела, тако и по разделе, в монастырь от отец приемлеми бываху без сомнения при положении точию начала, якоже и сам бывал дважды Игнатий Трофимович со отверсторадостными прият бысть руками.
Без сомнения в том же духе и действии состоялось церковное примирение, бывшее в Петербурге, в лето 7299 [1790]. Что при тогдашнем примирении поморския отцы, как страдальца Феодосия Васильевича, так и прочих усопших имена, для вечнаго помяновения в свои синодики вложиша, в коих и по ныне зрятся всеми. Такожде и о чинех молитвенныя службы определили, аще некия различныя чины обрящутся, в том друг с другом разногласии не имети, но кому с кем прилучится приходити имети соглашение, и распри не чинити, да мир Божий будет между християнами.
Подобно сему и в Москве, в лето 7312 [1804], было примирение с Замоскварецкими филипповыми християнами, что на Балчуге, при котором тоже написаны миротворныя статии, и с обоих стран рукоприкладством утвержены, чтобы первобытными разногласии друг друга не упрекать и не винословить. Такожде и преставльшихся от обеих стран поминать без сомнения.
Зрите вси безпристрастнии любители истины каковый нрав и каковый разум имели прежнии блаженныя памяти, как поморския, так же и новгородския, и московския отцы. Они во время тогдашняго мирнаго устроения побуждаемыя любовию християнскою все прежде бывшия несогласии и распри прекратили, и мир и согласие между собою учинили, прежде отшедшия, якоже выше явихом, с обеих стран от всякаго порицания освободили. Такожде и Феодосия Васильевича с прочими положили в вечное поминовение, о чем видится во многих отеческих миротворных писмах. А потому кто смеет, и кто может нарушить, и уничтожить таковыя их определения; по реченному: «Не прелагай предел вечных, яко же положиша отцы твои».
Дозде о миротворных соединениях.
При сем признали за нужное пояснить и еще несколько: о причинах разъединявших в нечесом Феодосия Васильевича, с его последователи, от поморских отцев. Причины же оныя не в вере и догматах состояли, но в некоторых обрядовых и обычных действиях, страна стране несогласных. То оныя умствования и действия почитали маловажными и требующими исправления, кои по милости Божией в скором времени начали прекращатся, и в последствии совершенно уничтожены. О чем выше пояснихом, такожде и зде хотя мало нечто объявихом, именно о тех винах, коими враждотворцы нас укоряют и мир церковный нарушают, и повсюду в маловедущих християнах провозглашают: что будьто бы федосеевы за свои вины не улучают спасения.
Первое, за четверобуквенную титлу; второе, за иноверныя браки; третие, за иноверныя брашна. На сие мы наветникам нашим скажем следующее: Что вы враждолюбцы на злая злым оком взираете, а добрая презираете, т. е. дружния недостатки зазираете, а исправления братня ни во что вменяете. Зде просим таковых умиленно фарисейская величания от себя отжените и нашего смиреннаго гласа вонмите. Ибо мы согласно с предками нашими объявляем следующее: Первое, о четверобуквенной титле на кресте в миротворительных статиях наших ясно показано нами, что титлы оныя во святей церкве мы не имеем, и на поклонение крестов с предреченною титлою, еже есть: I. H. Ц. I. Мы сами не поставляем, так и прочим всем верным поставлять запрещаем. Такожде всем иконописцам и меднолитным художникам нашим полагати оную титлу запретихом. О чем в достоверных наших отец памятниках, сиречь в их писмах, и в соборных статиях, в разныя времена уже десятирицею воспрещено и отменено [Ответ 4, на 4-ю статью, филипповым М. И. Стукачева]. В подробности же о сем высказывать признаем за излишнее. Ибо о сем понудихом изъявти – не для сынов мира, но да заградятся уста крамольных новофилипповских потомков. Понеже они в настоящее время аще старопоморцами себе и величают! а в миролюбном духе первобытным поморским отцам не подражают, которыя по миролюбному своему нраву, при содержании титлы, от предков наших не отлучались и прочим отлучаться не советовали. Как поморская история гласит: И поморский наставник Тимофей Андреевич и московский настоятель Михаил Григорьевич свидетельствуют о отце Андрее Дионисьевиче, который в бытность свою в Москве московскому купцу Ковурову о Евстрате Феодосиевиче и о прочих его спутниках сказал: «Если они с тобою не сообщаются, то и ты с ними не сообщайся, если же они сообщаются, то и ты с ними сообщайся, кроме сомнения» [Сборник Попова, том 3, стр. 28]. Сицевый бяше в богомудром отце, кафолической церкве учителе, кафолический дух. Ибо и сам он, якоже выше явихом, вскоре после раздела, в Нове-граде с Феодосием Васильевичем имел сообщение и совокупное моление. Понеже сей знаменитый муж, при своей учености, имел от Бога дар разсуждения. При руководстве того он добре ведал, что распрение Феодосия Васильевича состояло в маловажных делах и ни по какому либо его коварству, но собственно по недоумению и по неосмотрению за настоящую и гонительную нужду. Ведал и то, что надписание четверобуквенное в нашей Русской церкве появилось еще при Иосифе Патриархе. По словам господина Прохорова: «Нечувствительно во многих местах вошло в употребление от западных художников» [Християнския древности. Печат. 1864 г.]. А потому Андрей Дионисыч, как чадолюбивый отец и признавал наклонность отца Феодосия Васильевича в четверобуквенной надписи ни за какую либо самовымышленность, но собственно за неосмотрительность. Как видно из его собственных деяний и посланий, что он относился к Феодосию Васильевичу и к его последователям в самом снизходительном и примирительном духе, таковое великодушное творя к ним снизхождение. А не яко же нынешних многочинствуемых раздорников скорое во вражду и не мирное преложение.
Вторая, возводимая на нас вина, есть за приятие будто бы иноверных браков. И о сем тоже добре ведящии ведят, что у нас как на словах, такожде во отеческих писмах и в соборных статиях, как прочия шесть еретическия тайны, за тайны не приемлются. Так и брак их, за совершенную святоцерковную тайну его не вменяем, потому и обращающихся от иных вер к нам, за лишением правоверных священников священнословия, на целомудренное житие поучаем. А падающия в явныя пороки, таковых от церкве отлучаем, и по направлении их жития с епитемиею в общение приемлем. А что касается до мудрствования Феодосия Васильевича и прочих наших предков, о старых иноверных браках, то мы в том ничего особеннаго и противнаго не видим. Потому что они, хотя и признавали таковыя браки, вероятно по человеческой, а не по Божественной правине законными, однако по приятии святаго крещения, за лишением священническаго благословения, поучали на чистое житие; нарушающих же оное наказовали, о чем ясно видится в их соборном грамоте, писанной Феодосием Васильевичем в Нове-град, в лето 7202 [1694]. Следовательно и за сие, как предки наши, также и мы не виновны и сомневаться о том не должно.
Третия же вина, за моление брашен от рук иноверных приспеваемых. По сказанию святых мы не точию не виновны, но даже и похвалам достойны. Яко в сем деле слушаем святых отец и предков наших повеления, кои за за добываемое от иноверных брашно, молитися повелеша. О чем в книзе Пандекте, в 6-й части, в главе 73, с доказательствами Аггея пророка, от главы 2-я, стих 12; и от посланий митрополичьих; и от Зонара, прав. 76; и от Потребника, от главы 15, оскверненное и покупаемое с торгу от иноверных брашно молитвами иерейскими очищати повелено. Такожде и во главе 77, тоя же части, положено лестовку молитися за брашно еретиками строенное и овощь, прежними по Никоне отцы подтверждено от их посланий и преданий. Но как сие повеление в правильных канонах церковных не положено, а потому мы с немолящимися разделения не имеем. А молитися признаем делом душеполезным по следующим показаниям:
1-е, святый апостол Павел, в 1-м послании к Тимофею, глаголет: Зане всякое создание Божие добро, и ничто же отметно, со благодарением приемлемо, освящает бо ся словом Божиим и молитвою.
2-е, святый Фотий митрополит московский, в послании своем во Псков, пишет: «А что снове пишете, что из немецкия земли приходит что потребное, вино или хлеб, или овощь, и то снове очистивше то от иерей, и потом ясти и пити» [Печатная книга. Послания Митрополичьи, лето 6925 (1417)].
3-е, бывший при Никоне священный страдалец Аввакум протопоп, в послании к некоим християном, за очищение сосудов и брашен, по влиянии тогда еще бывшия святыя воды, вместо иерейския молитвы; 17 поклон полагати заповеда.
4-е, подобно сему и в гражданской истории, Андрея Иванова Охтинскаго, изображено: что прежние по Никоне бывшии православныя християне, между прочими правильными постановлениями, определили молитися за покупаемую на торгу пищу поклонами очищать. Ниже: Сие подтверждает и другий внешний историк Г. А. [Краткий очерк. Андреев, стр. 152], следующими словами: Быть может на этом правиле федосеевцев отразилось старинное постановление митрополита Фотия, об освящении припасов, привозимых из заграницы. Это постановление было зделано давно, и давно утратило силу. Но мы знаем, что чем отдаленней была старина, тем приверженцы стараго крепче держались за нее.
Зде вопросим благоразумных християн, кого они более оправдают; тех ли, кои в силу означенных повелений от иноверных брашно и всякия вещи молитвою очищают? или тех, кои от мусульманина, еврея и армянина, без очищения молитвеннаго употребляют?
Дозде о трех винах, возводимых на Феодосия Васильевича.
Есть и еще приписываемыя ему вины, кои произносятся более от неразумной ревности, как то: крестил в поручах, и при разделе с поморцами будто бы изрек: прах прилипший отрясая за непослушание, и не буди мне части с вами, и прочия подобныя сим винословия, на кои мы по тонку не вознамерились отвечать, потому что сии вины не подтверждаются достоверным свидетельством. Если бы оныя были, то не бы умолчал о том Андрей Дионисович в своих увещательных посланиях. Такожде и у первобытных отец, в миротворных соборных статиях, нигде о сих винах не вспоминается. А потому и заметно, что подобныя порицания произошли от любящих злобу паче благостыни, и неправду неже глаголати правду. По писанному несть удобнее еже на мертваго лва и мыши скачити, кои за неимением пищи, множицею и по́рты грызут [Пс. 51, стих 3]. Тако любящая суетная и лжу, оставльше истину, всякую неправду на ближняго плетут. Но как по писанному: Правда есть вещь непреодолеема, а потому благоразумному християнину добре ведомо: что отец Феодосий Васильевич не изобретатель был какого либо самомненнаго нововводства, но верный последователь последних священнопастырей и страдалец предания, и хранитель общекупнаго християнскаго содержания. О чем и внешнии историки согласно подтверждают так: что «Феодосий Васильевич был муж благочестивый, даровитый, твердой памяти, и славный буквалист торжественно поправший Никониазм. И мгновенно учинившийся пылким и разительным ревнителем благочестия он, неусыпно стараясь в подвигах веры, утвердил и просветил правоверием Новгородскую страну, озарил сим Польшу, и прочия страны в России, пожертвовавший за таковыи великия доблести своею жизнию Иову митрополиту Новгородскому. Он не раз боролся с буйным изуверством своей лжебратии, желая устроить единство своей и поморской церкве. Его ведение святаго писания, примерная жизнь и твердыя начала истин удостоили быть собеседником славных вельмож, другом знатных особ, и громкой славы во всех концах России. Он был примерный муж в подвиге благочестия, твердаго духа, и неустрашимый казней мира, редкий любитель церковнаго благочестия, чтитель кротости, и попратель надмения. Недоразумная ревность его хотя и учинила с поморскою церковью раздор, а миролюбие его убедило паки оный попрать, и быть ему не раз в Выгорецыи на заглаждении того. Его плоды благочестия и ныне гласят во всех концах России, и он ими навечно себя обезсмертил» [Сборник Попова, том 2, стр. 188, 2-го счета]. Дозде Попов.
Се отчасти пояснихом в сей главе как от сказания сынов света, такожде и от истории мудрейших сынов сего века.
О событиях между первобытными отцами новгородскими и поморскими и их последователи, и о происходящих между ними разногласиях и разделениях, и о их мудром и спасительном разсуждении, и о настоящем тогда на правоверных гонении и бедствии церковном, воспомянули и о бывших неблагоустройствах в первенствующей церкве, и о их прекращениях, на основании коих и у наших первобытных отец были миротворныя соединения, в коем и скончалися упомянутыя отцы: Андрей Дионисьевич, и Даниил Викулыч, и московския страны: Игнатий Трофимыч, Федор Калиныч, и Мксим Маркович, и проч… Понеже вины раздора были разсмотрены и некоторыя от них прекращены, ибо поморския отцы, современныя отцу Феодосию Васильевичу, знали его веру и любовь к Богу, и добродетельное житие, а потому от сообщения как с ним, так и с преемниками его не отлучались, и по кончине их, помяновения сподобили. Понеже оныя отцы добре ведали яко отец Феодосий Васильевич был последователь истиннаго учения последних священнопастырей, и своими современники признан был достойным духовнаго правления, и яко степень онаго духовнаго потомства до нас достиже, о чем в нижеследующей главе пояснити потщимся.
Глава 3
О степени отеческой московских и новгородских стран, от последних благочестивых священнопастырей, и их преемников, страдавших за древнее благочестие, иноков и простых, правящих духовными делами, между коими был отец Феодосий Васильевич.
В сей 3-й главе мы возъимели намерение для любящих истину пояснить, что происхождение нашего православия ни есть от коего либо сомнительнаго источника, но от самых первоначальных православных страдальцев: московских, новгородских и псковских [Ответ 3-й к филипповым М. И. Стукачева]. Которыя как мы уже изъяснили во второй главе были в неразрывном союзе и согласии с соловецкими и поморскими страдальцами, ведомо есть всему християнскому миру, что по числе 1666 –м провидения святых вся исполнися, когда Собор Московский был на изтребление и проклятие древних преданий в 7174 [1666] [Российская истор. печатная] [Цветник, глава 7, рукопись отца Ф. О. Казанск.]. В то время с господствующей церковью зделали раздел: епископ Коломенский Павел, протопопы, священники, игумены разных церквей и обителей. В ту же пору и те же лица были основателями всех уставов и порядков, хранимых нашею церковию, которую ныне новофилипповы зазирают до поношения, но не постави им, Господи, греха сего, ибо не ведают, что говорят. А потому и признахом за нужное, хотя вкратце, пояснить зде о некоторых первобытных отцех нашея гонимыя святыя церкве, коих учения и уставов мы, по милости Божией, держимся и до ныне.
От зде слыши любителю истины: Постепенность последних священных и не священных пастырей гонимыя святыя церкви. Из коих московския епархии: первый был Коломенский епископ Павел; вторый, Аввакум протопоп; третий, Спиридон архимандрит Покровский; четвертый, протопоп Даниил; пятый, соборный иерей Лазарь; шестый и седмый: священницы Козма и Стефан, бежавшии из Москвы, от церкве Всех Святых, 1668 года; диакон Феодор, инок Араамий, Исаия и Корнилий, и другия мнози, иже тогдашняго ради належащаго гонения в царствующем граде Москве, паче иных градов. Овии в своем месте пострадаша, а иныя в различныя грады и страны заточены быша и тамо мучения путь проидоша, а прочия тайно отбегоша, како же упомянутыя священницы, Козмо и Стефан [книга под названием В пользу Раскола, часть 1, стр. 6]. Дозде о московских страдальцах.
О новгородских же, псковских и поморских отцех и страдальцех поведает нам церковная история, яко оным страдальцам во главе быти тоже преосвященному Павлу епископу Коломенскому, иже кровию исповеданием своего страдания в Великом Нове-граде запечатле. Вторый по нем, игумен Досифей, Тихвинскаго Беседованнаго монастыря; третий, священноинок и пустынножитель Пафнутий; четвертый, священноинок и страдалец Феодосий; пятый, священноинок и страдалец Илия Крестецкаго-ям; шестый, Варлаам, протопоп Псковский; седьмый, страдалец и первый от простых учителей тоя страны Иван Дементьев, во святом крещении Карп; осьмый, учитель и страдалец Григорий, казначей Антониева монастыря; девятый, Василий и Михаил Диевы, учители быша и страдальцы; десятый, Самсон Ильин, сын священника Илии Крестецкаго, учитель и страдалец за благочестие; одиннадцатый, Василий Лисицын, сострадалец священномученику Варлааму; двенадцатый, Петр Иванов, учитель изрядный и страдалец, ученик был тоже Варлаамов; тринадцатый, учитель и страдалец Феодосий Васильевич, во святом крещении Дионисий, ревнитель сый и подражатель во всем первым отцам и страдальцам; cих современныя любомудрыя отцы и учители тоя же новгородския области Выгорецтии пустынножителие: Даниил Викулыч, начальник поморскаго общежительства, и его духовнии сотрудники, Андрей и Симеон Дионисьевичи, и прочии учительные мужи тоя страны, иже с ними во единомыслии о вере и догматех пребываху. Сих всех, как первобытных московских священнострадалец и учителей, такожде впоследствии соловецких, новгородских и поморских, мы, смиреннии, за едено чествуем и познаваем их, по сказанию священнаго писания составляющих собою церковь соборную, в коей и мы сознаем себя быти и учение их усердствуем содержати [книга О Вере, гл. 2, лист 22, Катих. Велик, гл. 25, лист 119].
Зде же надлежит заметить яко настоящаго время християны, именуемыя филипповы, коренем благочестия московских, новгородских и псковских бывших по Никоне страдалец не познавают. Понеже в поданной ими к нам 25 статиях [7370 года (1862)], из коих в первой коренем благочестия точию соловецких и поморских быти поставляют. О прочих вышеупомянутых филипповское общество, в статии оной умалчивают, как то о страдальцех наших московских, новгородских и псковских, по сих всех яко не бывших статия оная не упоминает, а чрез сие и дают замечание, что сочинители оных статей и прочия с ними согласныя не токмо нас грешных гнушаются, но чрез нас и самих даже наших отец и страдальцев пренебрегают. Мы же смиреннии и убозии последователи и любители своих отцов и страдалец не отрицаемся почитать и последовать, как выше сказано, отцем и страдальцем соловецким и поморским, но по долгу справедливости признаем необходимым и по месту своего жительства и происхождения даже и преимущественнейшим долгом почитать и последовать своим отцем и страдальцем московским, новгородским и псковским, не яко вышесказанным соловецким и поморским отцем противным и несогласным, но яко единыя истинныя православныя церкве истинным и достопочтенным членом. Ибо сами оныя любомудрыя отцы и учители: Даниил Викулыч, Андрей Дионисович и Симеон Дионисович первенствующими поставили [Российский Виноград] Павла, епископа Коломенскаго, Аввакума протопопа, и прочих московских и владимирских, потом новгородских и псковских, и поморских, потом в особую статию соловецких, и всех страдальцев Христовых почли подобною и равною честию. Тако и мы смиреннии с любомудрыми сими отцы и учители согласно всех их общекупно, а не по выбору всеусердно почитаем и чествуем. А потому надеемся, яко имущия ум благоразумен уразумеет от сих показаний, что происхождение нашего православия ни есть от какого либо сомнительнаго источника, но от самых, яко же выше явихом, первоначальных православных страдальцев, из числа коих, в новгородских странах, первенствующими учителями были страдальцы: Варлаам, протопоп псковский, Иван Дементьевич, во святом наречении Карп, и Василий; от которых по вере произошел тоя же новгородския страны житель, знаменитый и словущий учитель Феодосий Васильевич, как он сам свидетельствует о том в соборной новгородской грамоте, писанной в лето 7202 [1694], находящейся в гражданской истории протоирея Андрея Иванова, признавая оных страдальцев своими, и своя новгородския страны отцами и учителями. Феодосий Васильевич не был заводчик или основатель какой либо веры, или какой либо самомнительной новизны, но был верный последователь прежних страдальцев и сообщник прочих православных християн. Имел у себя отца духовнаго и находился в его послушании, был посылаем от братства для духовнаго учения за свейский рубеж [Кожанчиков Раскол. Дела 18 столет, том 1, стр. 87]. Сие подтверждает и гражданская история, что новгородцы поспешили отправить за рубеж, для обличения отступников, опытнаго и отважнаго своего сотоварища, Феодосия Васильева, который и исполнял свое поручение с достодолжным рачением и исправностию, потом в польских пределах составил две знаменитыя обители, но ради произшедшаго тамо нападения от воин преселися паки в Россию, и такожде составлял обители, и страдальчески скончася в Нове-граде, в лето 7219-е [1711] [Ответы М. И. Стукачева к филипповым]. О чем пространно пояснено во главе 1-й, в житии его. Во все же продолжение своей жизни он был в согласии и единомыслии со всеми новгородскими и прочих стран православными учители християнскими. Но аще по Божию попущению и произошло у него не благополучное разделение с поморскими християны, но как видится из современной християнской истории: что они друг ко другу относились весьма благосклонно и уважительно, о чем являют послании, как любомудраго отца, Андрея Дионисыча, такожде и словущаго учителя Феодосия Васильевича, егда он писал послание поморскаго монастыря духовным настоятелям Даниилу Викулычу, Андрею Дионисовичу и со всеми прочими учительными людми [От собственноручн. писма Ф. В. к поморяном]. В коем именует их блаженными и о любви Божией собранными, и братиею своею, себе же признает многогрешным, и малоразумным, но в той же вере святей пребывающим. Такожде и миролюбивый отец А. Д. в своем миротворном послании пишет ко отцу Феодосию Васильевичу: «Аще ныне у вашего доброревностнаго боголюбия случившееся распрение о вещах недоумительных, о вещех подлежащих обысканию, о вещех требующих общесоборнаго разсуждения [Старопомор. рукопис. находящаяся у Θ. М.]. О чем вскоре со обоих стран, на основании святаго писания добре и богоугодне миротворное соединение учиниша. Яко же выше во главе 2-й по тонку явихом. Ибо блаженный миротворец отец А. Д. в том же послании пиша, сице глаголет: «Аще мы де в нечесом и распрехомся, яко человецы сие бо присвойственно есть человеком человеческим подлежащим немощем». Понеже по писанному: не похвалится всякая плоть пред Богом, ибо и при апостолех быша некая распрения; Петр и Павел в Антиохии распрешася в мале. Такожде Павел и Варнава распрешеся и разделишася друг от друга. К тому же и сущии в Коринфе распрешася друг с другом, и проч. неблагоустройныя происшествия бываху в православной церкве, даже между святыми мужи, но паки во единомыслие церковное снидошася о чем выше во главе 2-й изъявихом. Тако и наши первобытныя отцы поморския и новгородския аще и имяху по случаю гонительнаго время некоторыя неосмотрительности, и разногласия во обрядех, а не в догматех церковных, а потому друг друга не чуждахуся, и не уничижаху, но благопохвальными титулы друг друга именоваху, ибо повсюду являют поморских отец послании к Феодосию Васильевичу и к его сообщественником, в коих именуют их: православномудрствующими, и за древнее благочестие страдальцами, и проч. И о сих дозде.
Паки же возвратимся на повесть благочестивыя нашея отеческия степени. Егда по страдальческой кончине приснопамятнаго отца нашего и учителя Феодосия Васильевича прешедшим 7-м летом, тогда по Божию попущения и по навету новолюбнаго духовенства Самодержец повеле воинство в Ряпину Мызу послати, и в обители отца Феодосия сущих начальных, такожде и по селом духовных, по реестру имяны более 20 человек, взяти и в Петербург на истязание привести, и на муки отдати. И егда услышаша таковое повеление они разыдошася кийждо где знаяше, храняще себе от гонительных рук, а наипаче в польское державство уклонишася. Войни же пришедше взяша двух духовных мужей, единаго престарелаго, именем Илию Яковлевича, иже в Соловецком монастыре жил до разорения, и Симеона Ивановича, и отвезоша их тамо. И по многом истязании, и не отвергшихся древле-церковных содержаний, заключиша в нужное заточение. В нем же блаженный старец Илия многи нужды претерпев, месяцы четыре, преставися в вечный покой. Твердый же страдалец Симеон, с другим християнином Феодором Феодотовым; сии два по годичном страдании пред самим монархом на истязании быша, и тайным образом смерти предана быста [Сборн. Попова, том 3, стр. 20]. Глаголют нецыи, яко за ребра повешены бяху в темной казарме. Прочих же, яко мужеский пол, тако и женский, из обители всех изгнаша. По свидетельству гражданской истории, после этаго дела, Ряпинские скиты уничтожились окончательно [Кожанчиков. Раскольн. Дела 18-го столет., том 1, стр. 102]. В 1719 году, а потом в 1722 году, образа, книги и колокола из скитов взяты в Дерптскую церковь. Таким образом Ряпина Мыза опустела. Жители же оныя утвердились в разных городах русских; в Нове-граде, Ярославле, Старой Русе, Пскове, Риге и других [История Виницкаго, стр. 269]. Так же заграницей; в Австрии, Прусии, Польше и в Стародубских слободах, а неции в поморский Данилов монастырь отъидоша [Християнск. Рукописи отеческой степени].
При сем же по оних, триех исповедниках феодосиевой обители, учителех: Илии, Симеона и Феодора, иже по псалмопевцу: глаголаху о свидениях Господних пред царем и не стыдяхуся [Пс. 118, ст.46], лепо есть и прочих имена воспомянути, иже бяху мужи духовнии и справляюще духовныя нужды. Сии суть: Яков Яковлев, Симеон Сергеев, Стефан Волонский, Антоний Авраамов, болярин Димитрий Него́нский, Федор Афанасьев, Никита Иванов, Игнатий Трофимов, и проч. мнози, их же имена, краткости ради, оставляем [Отеческая степень, глава 2].
Рцем же точию сие: яко святая церковь от начала мiра гонение претерпевает; а подобно начаток Христовой церквн с концем согласуется, ибо первие триста лет в неволе, тако и остаток в том же скончается [О вере, гл. 2, лист 21,23,24; гл. 20, лист 186 обор.]. А якоже в первенствующей при апостолех церкве смотрением Божиим попущено бысть гонителем отгнати от Иеросалима до 50 тысяч християн, иже разыдошася в различныя страны, и проповедаху веру християнскую, и мног плод церкве святей сотвориша [Бароний, лето Господне 35, числ. 1, лист 25]. Тако во оное время аще попущено бысть Богом обителем блаженнаго Феодосия разоренным быти, и учеником его розгнанным. Но обаче яко же оныя первобытныя християны, тако и сии последния, повсюду истинную веру проповедаху, и во мнозех местех обители составляху, как то: во граде Риге, Петербурге, и в прочих градех и весех, ибо гонению тогда пома́ле наченшу стихати, и блюстители древняго православия свободнее перваго по всем странам и градом хождаху. Как поведает нам история: «некогда отцу Андрею Дионисьевичу приехавшу в царствующий град Москву, 1717 году, и ставшу в Красном Селе, у согласнаго с ним купца Ковурова; к нему же из Старой Русы приехал Евстратий Феодосиевич, сын Феодосия Васильевича, тоже правящий духовным делом, с 20-ю стариками» [Християнская история и сборник Попова, том 3, стр. 28]. Зде должно заметить грубым филиппаном, в каковом близком единении духа был великодушный отец А. Д. к Евстратию Феодосиевичу и к его сообщественником, яко и благоприятели у их едини бяху, и в сообщении друг друга не весма чуждахуся. Ибо сей благонравный отец А. Д., такожде и прочия поморския отцы добре ведали предшественников и современников, и учеников отца Феодосия Васильевича, ибо они как первыя, так и последния, вси были добронравием украшены, и твердыя в терпении, и в православии мужественныя. Яко же являет о них история, о чем и мы во главе сей отчасти пояснихом, яко от обители блаженнаго отца и страдальца Феодосия Васильевича нецыи от учеников его последоваша вслед страдальческаго (пути) учителя своего, и ови убо наскоре путь страдания проидоша, а друзии, Божиим благоволением, оставлени быша, да и прочим ко спасению споспешницы будут; яко же и бысть. Того же общежительства всеизрядный учитель, истинныя древлеправославныя церкве последователь, Игнатий Трофимыч, от онаго благочестиваго, страдальческаго корене, православия ветвь израсте и напоследок в преименитом царствующем граде Москве мног плод принесе. Яко же поведает нам история [Рукопись отца Е. Г.]: что «по разорении последним обители отца Феодосия, вси простии людии и духовнии учители в разныя страны разыдошася, а Игнатий Трофимыч в Москву, и прочии с ним. Еще же некто духовный учитель изрядный: Трофим Иванович, родом Кинешемских стран; сей благословение на отечество получил от поморскаго отца Даниила Викулыча, понеже он неколикое время в тех странах поживе, и был четвертою степению от отца Даниила; тоже прииде в Москву и поживе ту до времени Илии Алексеевича Ковылина». Ведомо же буди и сие, яко сих духовных настоятелей от степени отец новгородских, и поморских, и того ради доведохом до степени отец московских. Да покажем яко онии отцы аще и отдаленными страны растояху друг друга, аще и обычаи некиими по различию стран разньствоваху, но единство веры и догмат церковных не нарушаху. Понеже по писанному: «Аще и по всему мiру разсеяни вернии, едино есть тело Христово» [Апостол Толк. Зач. 123, лист 468, Катихизис Мал., лист 23]. Тако и сии словущии учители древняго благочестия к московским християном приидоша, ни свое кое мудрование и учение принесоша, но общесодержимому и соборами святых утвержденному последоваша. Ибо в царствущем граде Москве аще первие и вельми належаше гонение на староверцев, и мнози страха ради гонительнаго дающе место гневу, оставльше домы и отъидоша, неции же в тайне благочестие храняху и во своих домех живяху и о нуждах духовных соборне обсуждаху, яко же сказует история [Кожанчиков В пользу Раскола, стр. 6; История Выгореции, стр. 299]: «Во едино время собравшимся в Москве, у некоего христолюбца в доме, еще бывшия тогда священницы, иноцы, и простии благочестивии людие». И в последующее время християны в Москве семействами жили и детей во своих домех чтению и писанию учили, и даже особые кладбищи дозволяло правительство иметь християном. Как являет история [Русский Архив, выпуск 3-й, 1864 г., стр. 246]: «первие похранялись у Полеваго двора, близ Краснаго пруда, потом оное кладбище перведено было за Серпуховские Вороты, за умалением же там места, отведено было неподалеко от онаго на наемную християнами землю, где и похранялись до 1771 года». Такожде и духовнии учителя были в то время в Москве, о них же нижеследующее слово являет: Сия последственная степень московских отец, в коей первый числится от феодосиева общежительства Игнатий Трофимыч. Сей муж был искусный, и Божественное писание довольно ведущий, и всепремудро о настоящем времени разсуждающий, и за православную веру всеусердно стоящий, и верныя народы многочисленныя поучаще и укрепляше православие неизменно содержати. Его жизнь описывает и внешний историк, хотя по враждебному отношению к християнам старообрядцам и набросал несколько порицательных слов, но впрочем и истины не умолчал. Он именует его тако [Сборник Попова, том 2, стр. 130, 2-го счета]: «Славный пастырь и учитель феодосианской Церкве, ревностный защитник ея, муж был, подвижной в создании – церкви, строгой жизни, хорошаго сердца, и не злобив, а при сих отличиях он был миролюбив, и почитал раздор церковный за тяжкий грех, для того не раз ездил в Выгорецию, не раз убеждал настоятельно словами и писмами все феодосиян к принятию соединения с поморскою церковью. Он многократно испытовал от чюдотворных и святых предметов о подписании бытия Пилатовой титлы на кресте Христовом. Москва, Выгореция и проч. страны правоверных часто обращали на него свои взоры, с немалым вниманием и важностию. У феодосиян он был столб утвержения, слава и честь их». Дозде от истории Попова.
Сему словущему учителю, Игнатию Трофимовичу, современники были сия отцы [Отеческ. Степ. Глава 4, лист 19, обор.]: Никита Осипов, Анурий Максимов, Артомон Осипов, Симеон Васильев, между коими был из московских граждан учительный муж и наставник духовный, Илия Иванович. Ему Игнатий Трофимович был собеседник и последователь, и сын духовный [Рукопись отца Е. Г.]. Сему ревностному хранителю древняго благочестия все московское християнское общество обязано благодарностию, понеже он первый был настоятель московския обители, Успения Пресвятыя Богородицы, что в Преображенском, как при нем точию возъимело свое начало.
В 1771 году, по Божию попущению, умножающеся тогда в Москве моровой заразе, нашему християнскому обществу разрешено было правительством устроить больницы для заболевающих внутрь столицы [Русск. Архив, выпуск 5, 1864 г., стр. 246]. И во оных больницах принимались тогда зараженныи болезнию люди разнаго звания. И от перваго сентября месяца по декабрь, как являет история из оных больниц, выздоровевших и возвратившихся в свои дома до шести сот человек, такое значительное количество выздоравливавших тогда в наших больницах, не сравнительно и преимуществено пред прочими, приводит внешних историков во удивление. И они признают воду быть тут целебным средством, пишут так: «что приходящим в ковылинскую больницу, федосеевцы во главе с Ковылиным и Зенковым не упускали случая дать понять обращавшимся к ним, что Москву карает Господь за отступление никониян, и что единственное средство спастись состоит в обращении к древнему православию. Затем, как непременное условие перехода к правоверию, являлось крещение в Хапиловском пруде: вода то именно и играла главную роль в пользовании чумных» [Раскол. Дела, Андреев, стр. 199]. Сии слова мудраго сына века сего заключают в себе весма мало истины против сынов света, кои хотя и признают воду при крещении целебным средством, но едина вода без Духа Святаго ни что не может, яко же рече святый Богослов: без Него ничтоже бысть, еже бысть [Иоан., зач. 1]. Такожде нет справедливости и в тех словах: что Ковылин и Зенков были тогда во главе федосеевцев, и учили больных обращатися к древнему (благочестию) правоверию. Сие опровергается тем, что в 1771-м году подано было прошение московскими християны на устройство больницы к генералу Еропкину, и подписано более 20 рук московских граждан, а на конец Илия Алексеевич Ковылин, крестьянин князя Голицына. А Зенкова и вовсе нет. А потому и не было резону называть тогда больницу Ковылинской. А еже учити древнему (благочестию) правоверию Ковылину и Зенкову больных весма невероятно, понеже те люди принадлежали к делу коммерции, и жили во граде, а не в больнице. Впоследствии, хотя и зделался Ковылин знаменитым членом християнскаго общества и главным попечителем оной больницы, но его должность состояла – внешяго попечения, а не духовнаго в больнице правления, как это пишут некоторыя от неведения. По нашей християнской истории, такожде и по некоторым гражданским, что при начале устройства больницы, в 1771 году, зведующий там духовным правлением был, как выше сказано, старейшим настоятелем, Илья Иванович, который в том же году и житие свое скончал, оставил о себе добрую и похвальную память, не точию в християнском мире, но и во внешнем. Его житие и деяния описывает един историк, хотя за некоторыя противоположности его мыслям несколько и очернил, но впрочем, и правду не умолчал. Он сказует так: «Илья Иванович, главный пастырь и учитель феодосианской церкви в Москве, ревностный защитник своей церкве и строгий блюститель ея преданий, тщателен в созидании церковном и любитель ея благолепия, вел строгую жизнь, и украшал ея нищелюбием, кротостию, незлобием, и чистотою своего сердца. По ревности своей веры и сим отношениям был в Москве своей паствы образ благочестия и нравственности, любимец своей церкве, славим был в Выгорецыи, Астрахане, Саратове и прочих странах за его правоверие» [Сборник Попова, том 2, стр. 131, второго счета]. В самое же то время построена часовня, при оной больнице, для отпевания умерших, и для общаго моления, деревянная, и тут же отведено кладбище для похоронов нашего общества християн. И с того времени в оных наших больницах принимаются престарелыя и бедныя люди [Русск. Архив, выпуск 3, 1864 г., стр. 246]. С писменными видами [Рукопись отца Е. Г.], по блаженней же кончине главнаго (попечителя) настоятеля, Ильи Ивановича; управлял духовными делами словущий и приснопамятный благочестия подражатель, духовный отец и наставник, Трофим Иваныч Кинешемский, он жил при Илье Алексеевиче Ковылине. В то же время, при оной обители, заведовал старейшинством в духовных делах и отправлением богослужения благоревностный благочестия рачитель и правоверия учитель, и наставник, Андрей Алексеевич [2-й Главный настоятель], о коем с похвалою повествует гражданская история, именует его: «славным пастырем в сей столице, нашей святей церкве, он был строгой жизни, тщательный в созидании своей паствы, строгий блюститель правил и обычая своей церкви и ея благочиния; любимец Илии Алексеевича Ковылина и почитаемый от всех сообщественников, украшавший их своим пастырьством долговременно. Муж был кроткий, незлобив, чист сердцем и удален гордости и славы» [Сборник Попова, том 2, стр. 55, 2-го счета]. Дозде от истории более правдоподобное.
Кончина же сего благохвальнаго и словущаго настоятеля была 7300 [1792] году, в 29 лето от начала обители. Прочих же, во оное время бывших под его началом духовных отец скончалось шестьнадесят, их же имена писать краткости ради оставляем [Синодик мужеск. Моленной. Истор. М. Виниц., стр. 273]. Живущих же во обители тогда вмещалось 500 человек обоего пола, да имело 3 тысящи прихожан в Москве, посещавших его моленны. В то время деревянная часовня во обители пришла в ветхость, и по прозбе нашего християнскаго общества дозволено было графом Чернышевым построить каменную часовню. При совершении же оныя на главах кресты ставить митрополит же Платон запретил. О чем тоже было от общества подано прошение, и по ходатайству Илии Алексеевича Кавылина получено разрешение, и кресты поставлены, не точию на часовне, но в впоследствии на всех моленных, находящихся при больничных полатах.. Как поведает нам и внешняя история [История о кладб., печатанная в типографии Каткова, стр. 21]: «Что в царствование Александра I, при жизни Илии Алексеевича Кавылина, Преображенское кладбище действительно приведено было в цветущее состояние, и получило многие права, упрочившия его (состояние) существование». О чем ниже несколько поясним, зде же паки повемы о степени главных настоятелей Московско-Преображенския обители.
По блаженней кончине онаго, приснопамятнаго отца, Андрея Алексеевича, всеобщим християнским желанием и отеческим благословением возведен был на главную настоятельскую степень отец, Сергей Яковлевич [3-й главный настоятель], муж всетвердаго о благочестии стояния, и о законех отеческих незыблемаго утвержения. Он был всепремудраго разсуждения, христособранному стаду всепредобрый следователь; ибо при первых летех правления обитель начала распространятися и житилей в ней умножатися, и стены ея такожде, и законы духовныя весма утвержатися. Понеже християнское общество, сострадая страждущему нищетою и недуги человечеству, для успокоения их, составило добровольную складкую сумму двести тысяч рублей, и с дозволения местнаго начальства построило вновь каменныя богадельни и больницы в двух отделениях расположенныя, сиречь: мужескаго и женскаго, и оба отделения, или обители обнесли каменными оградами с наугольными башнями [Сборник Попова, том 3, стр. 60]. Мужеская длиною 100, шириною 56 сажень, в вышену 3,5 аршин. Вторая обитель, женская, кругом так же обнесена каменною стеною, длиною 113, шириною 65 сажень, внутри же оных оград, посреди – большия каменныя часовни, а у нас их называют соборныя моленныя. По окрестности же их, ко оградным стенам, каменныя двухэтажныя полаты, в мужеской обители две и несколько деревянных, а в женской 5 каменных и более 30 деревянных келий. При оных каменных седми полатах при каждой устроены моленныя, с изящною древнею святынею и с драгоценною утварью; во особенности в соборных моленных превосходная святыня и утварь. Живущих же во оных зданиях, в начале 19 столетия, умножилось до 1500 человек, а прихожан оных обителей в Москве уже было более 10 тысячь [Макар. Виниц., стр. 273].
Основав и учредя таким образом богадельни и больницы старообрядческое общество положило за необходимость исходатайствовать у высшей власти законнаго утвержения, и посему делу ходатайствовать избрали способнаго и уже издавна усердствовавшаго ко упрочению сея святыя обители, Илью Алексеевича Ковылина [Сборник Попова, том 3, стр. 61-62]. Дали ему полную доверенность и написали прошение на имя государя Александра I-го, в шестьнадцати статиях, в коих пояснили, как о зданиях обители, так же и о поряках жителей оноя. В сем прошении наименована была обитель: Преображенским Богадельным Домом. В 1-й статье онаго просили о всегдашнем существовании обители. Во 2-й, обязуется общество более усовершенствовать обитель, снабдевать и покоить жителей без посторонних пособий. В 3-й, просили чтобы безпрепятьственно отправлять Богослужение, по древним святых отец правилом и уставом. Так и в последственных статиях прошено о важных, более надобных, для живущих во обители и ее прихожан. Наконец, в 16 статье для исполнения всех порядков обители просили уполномочить, из среды своего общества, попечительных членов из именитых граждан, а именно: Ефима Грачева, Илия Кавылина, Тимофея Соколова, Андрея Заики, Алексея Никифорова, Феодора Владычинскаго, Лаврентия Осипова [История М. Виниц., стр. 273]. И утвердили сие прошение общественным подписанием московския купцы и прочия гражданы, до 100 человек, с коим избраннейший попечитель нашего общества, Илья Алексеевич, 19-го декабря, и отправился в Петербург [Отеческ. Писан., часть 1, глава 65]. И по должности християнской при отправлении своем, тщательно прибыл во обитель. И во всех молитвенных храмех петы были молебны. И он со всеми настоятели в каждую моленну входил, сопровождаемой крилосом певцов, с храмовыми стихерами, и прощался со всеми умиленно, на что были многия сиротския слезы и вопли. Продолжение же того прошения было не менее 3-х часов. Потом и отправился благополучно провождаемый до Тверской заставы человек до 10 и более знаменитыми купцами прося слезно и моля всех, да возлиют к Вышнему усердныя молитвы каждая християнская добродетельная душа, чтобы его милостивыя щедроты коснулись до царския монаршия власти, и склонила на все наше прошение желаемую резолюцию наложить, и оставил бы как нас, так и святыя обители без от команд притеснения; хвалу и мольбу повседневную ко владыце Исусу Христу.
Итак отправясь в дальний путь, Бога помощника имея, и християнския молитвы: споспешением коих вскоре желаемое улучили, всещедрый и всемилостивый Господь сердце царево на милость преклони. И он именным своим указом все просимое даровал, и на будущее существование, под общим покровительством законов, Преображенский богадельный дом утвердил и указ оный собственноручно подписал [Сборник Попова, том 3, стр. 67]. При том же Ковылин выхлопотал чтобы оная обитель не зависима была от московских духовных властей, а находилась в исключительном ведении гражданских [Очерк. Раск. Андреева, стр. 206]. И по сказанию той же внешней истории [М. Виницк., стр. 273]: «Тогда слух о богатьстве и видимом благоустройстве этой обители, о достоинствах и многих весма успешных действиях Ковылина, возвысил оную в глазах всех иногородных федосеевских общин находившихся в Ярославле, Новгороде, Вышнем Волочке, Риге, Туле, Саратове, Нижнем Новгороде, Казане, Симбирске, на Дону, Кубане, в Стародубье и других местах». Дозде от истории.
И когда при Божией помощи стены обители и богослужебных храмов в великолепном виде помалу были сооружены, и царским законом утверждены, и многочисленныя жители на спасение душевное и на спокойствие телесное во обители оной помещены, тогда начальствующим надлежала нужда и о прочей единоверной братии своей, обитающих во отдаленных странах, иметь духовное попечение, и они в подражание Христовых апостол и святых отец отдаленныя страны овогда сами обхождаху, овогда же писменными послании научаху и вразумляху, и во единомыслие православныя веры привождаху. Таковыя первобытных отец евангельския добродетели свидетельствуют книги их посланий. Первая, под названием «Отеческия завещания», в 60 главах. Вторая, «Отеческия писма», имеющая в себе более 100 глав, о различных духовных делах в разныя страны писанных до нашествия галат, сиречь по 7320 [1812] год. И еще книга «О християнском житии» приличном настоящему лютому времени и бедствующему в духовных делех человечеству, в коей имеется 75 глав о различных потребах християнских, како их за неимением священнаго лица простолюдину исправлять. И сие все подтверждено доводами от священнаго писания. Составил же оную книгу, о нем же выше явихом, благочестия учитель, Трофим Иванович, ибо он по, словеси Господню [Марк, зач. 37], отвержением мира и трудолюбным житием во обителех християнских душе полезное дело сотворил. Тако оною книгою и других научил и великое воздаяние от Господа Бога получил, по свидетельству достоверных християн трудолюбное его тело по смерти тлению бысть не причастно.
В тоже время собрана богодухновенная книга «Новыя Пандекты», на нынешняя последняя самовластныя лета, от двухсот пятидесяти шести священных книг, и внешних, от которых оная книга Пандекто, яко прекрасными и различными цветы лепотне уряженная, о святей соборней и апостольстей церкви, яко первенец всеговейно поднесенная. Она имеется в 4-х книгах и разделяется на 9 частей. Книга 1-я, имеет в себе 3 части. Часть 1-я беседует о богословии и о правой вере, в 21-й главах. Часть 2-я, о церкви и обрядах ея, в 40 главах. Часть 3-я, о божественных иконах и преслушающая тому, в 37 главах. Книга 2-я имеет в себе часть едину, 4-ю; располагается на 272 главы, в кихже беседует о седми тайнах церковных и о приятии еретик. Книга 3-я имеет в себе две части: часть 5-я беседует в ней о священном и божественном писании, в 33 главах; часть 6-я, об обрядах и житии християнском, в 80 главах. Книга 4-я имеет в себе три части. Часть 7-я беседует о повиновении пастырем и о отступлении, о ереси и последующих ей; в 56 главах. Часть 8-я, о четырех монархиях и пятой, Антихристовой, и окрестностях тоя; в 95 главах. Часть 9-я, о всей твари иносказательне, в 21 главах. В четырех книгах всего 655 глав, листов 1579. Чтущии сию душеполезную книгу Пандекту именуют составившаго оную: вторым Златоустом. Яко же той изъясни сыновом господствующия тогда святыя церкви священныя словеса, тако и сей чадом гонимыя на последние время путь спасения показа. И еще им же составлена книга: о различении действий духовных древлеправославныя церкве учителей и новых. И обоих обряды и совершение таинств в лицах воображены; чем сопротивныя различия православныя церкве со инославной довольно поясни, и доводами святаго писания и новаго подтверди. К сим же 3-я книга: Богослужебный устав, оным же премудрейшим учителем собраны от древлепечатных и старописменных уставов, общецерковных и киновийских, и скитских. Во оном уставе на весь год чинно положено всякая служба церковная, дозволенная простолюдину. 4-я книга, его же трудов снискания, на Ефремово 105 слово, еже о Антихристе изложено толкование, и оное преподобнаго речение на 80 стихов разделено и от многих святых писаний пояснено.
Сей достославный и учительный отец Богом врученный ему талант не скрывал, и со всяким тщанием на стражи гонимыя святыя церкве стоял, и на созерцание священнаго писания повсюду верных сынов ея обзирал, и на путь спасительный святоотеческих законов наставлял. А уклоняющихся в развращение коего либо иномнения вразумлял, и от святаго писания научал. А сопротивляющихся и от единства веры отделяющихся со дерзновением обличал и на кривосказательныя их суемудрия многия книги написал, как на отщепенцев наших и подзорников церковных, глаголемых: Кондратьевых и Аристовых. Такожде и велехвальных и самохвальных, и самомудрых филиппан вельми увещевал и к миру церковному склонял; к тому же и недавнишних отколков православия и сомнительных бегунов или странников; и на их злый отрод самокрестов от святаго писания возразительно отвещевал [Приложение к отеческим Завещаниям. Е. Я., Отеческия писма, часть 1;3;17;92]. Такожде иномудрых леваков, иже при молитвословии Сына Божия шуия части сопричли, и сих вельми обличал, и других кривосказателей и телесе Христова, еже есть соборныя церкве, немилостивых разсекателей; овых отечески наказуя и вразумляя, а других от священнаго писания премудростно изобличая. Но и паче же духом и силою Ильиною ревнуя, ревновав по законе отеческом на возникающих и умножающихся тогда в царствующем граде братскаго единения отступников, сиречь иномнительных самобрачников. Их же он неправильное мудрование многим святым писанием, особою книгою обличив, посрами. И еще во обличение всем оправдающим несвященнословное брачное сожитие 58 глав собрав, в упомянутой книге Пандекте положив. И что много глаголати о его от священных писаний собраниях, ибо оная неповрежденным чувства душевная, яко мед сладок являются, а поправшим совесть самомудрым защитникам безчиннаго брака, яко некая горестная лютость обретаются. Ея же они не терпяще клеветаху на праведнаго злобно, не точию пред властию, но даже и пред самим царем. И его именным повелением заточен был в соловецкую обитель [Кладбищен. Акты, глава 17], коея и был многолетный тюремный заключевник, и тамо житие свое страдальчески скончал [в лето 7347 (1839), июня в 27 день], и плотскими усты благовествующими путь правды навечно умолчал, но своими святолепными собрании, вышеупомянутых книг, присно вещает и благопокорным сыновом гонимыя церкве путь спасения являет.
Таковы бяху онаго благопохвальнаго и учительнаго отца труды, от коих и по днесь емлют сынове его душеполезныя плоды, и веселящеся духом блаженнаго и приснопамятнаго отца, Сергия Симеоновича, а во святом крещении Иоанна, память восхваляют, и за упокоение души его молитвы ко Господу возсылают. Понеже оный отец благочестивый житель нашея богоспасаемыя обители был и предания отеческия свято и нерушимо хранил, и прочих тому же учил: имейте, рече, «яко щит прежних наших отец завещания, держитеся московскаго благословения и от него с верою всяческая себе заимствуйте, поелику аз грешный много здешнюю веру испытал, и уразумел, яко настоящия отцы здешнии прежних отец положением последуют. Новоженов, яко закону поругавшихся, отметают и староженов к целомудрию наставляют, а по третичном преступлении от церкве отлучают. Половинок называемых в церковь не приемлют. В пьянстве обличавшихся поклонами многими при соборе смиряют. И просто рещи вся положения отеческая наблюдают» [Отеческия Писма, часть 1, глава 10].
Таково было онаго премудростнаго учителя о сей обители и ея духовных правителях к вопрошающим у него отношение. Таково же и сам имел к ним благопохваление; он именует их, в своем послании златоблистательнейшими в православии, белеющимися в безсмертном чистосердечии и простодушии, красотоделателями винограда Христова, и вседобрейшими пастыри словесных овец [Там же, глава 1, лето миробытия 7313 (1805)]. И аще столь мудраго и разумнаго мужа благопохвально было ко святей оной обители и к ея старейшинам духовным отношение, то откуду же сопротивнии имеют подозрение и поношение.
Но мы оставльше таковых напыщенное кичение возвратимся на постепенное отеческое речение. Яко при упомянутом выше старейшим пастыре, Сергии Яковлевиче, в первобытных летех его правления под его началом во обители были и еще духовныя отцы: Лука Терентьевич, Симеон Михайлович, Иван Потапович, Петр Козмичь и Федор Сергеич. И в то время, как являет нам история, что оная святая обитель всеми благами, как духовными, так же и вещественными, обильно гобзовала. И яко же вторый Сион по все страны святоотеческий закон разсылала, как о духовных действиях, дабы оныя исправлялись в единообразиях с первобытными отцы. Такожде и на создание богослужебных храмов во все страны посылалось от московских отец благословение и о служебных уставех повеление, дабы отправлять службу Божию по уставу древлецерковному, елико следует простым людем [Отеческия писма, часть 1, глава 36 и 70]. Без благословения же отеческаго по уставу службу отправлять запретили [Отеския завещания, глава 9, отеческия писма, главы 9-26, 27 и 97, часть 2]. Такожде и прочия чиноположения общежительствам определяли; как о благотворительных подаяниях, такожде и о разделах дохода служителем. И сим духовным учреждениям того времени был главный деятель между прочими отцы Сергей Симеонович, о чем свидетельствуют составленныя им книги. Ибо о сем многия подтверждают, что подобнаго снискателя и изъяснителя священнаго писания наше московское християнское общество не имело. А еже о внешнем устроении обители и о ходатайстве к власти гражданской, первейшим познается от всех християн Илья Алексеевич Ковылин. Сие и внешние историки подтверждают: «Что Ковылин для федосеевскаго общества столько же зделал полезнаго сколько братья Дионисовы для Выгореции» [Макария Виницкаго, стр. 270]. И когда сих обоих жизнь Божиим благоволением продолжалась, тогда как сия обитель, так и повсеместно, християнство верою утверждалось и святоотеческими правилы ограждалось, и от наветов вражеских защищалось. Егда же Господу изволившу сего рачительнаго киновийскаго строителя и попечителя во оный век преселити, то воочию християн упадающии духовныи и внешния дела предвидились быти [История Преображ. Кладб. Типограф. Каткова, 1862 г., стр. 28]. О чем ясно показует писмо отца, Луки Терентьевича, извещающее християн о кончине Ильи Алексеевича следующими словами [Отеческ. Писан., часть 1, глава 79, 1809 г.]: «Настал у нас новый и печальный случай, пременилась с ним и светлосияющая в сердцах наших радость. Ниже: апостолов красота церковная изшел, небесный облак мрачный, покрыл светозарное солнце, навел ночь неблагополучную. Ниже. Християнския роды из обители от дел своих инуду в своя кровы начинают изходити. Ниже. Ох, увы, плачевныя дни насташа! Ниже. Всеобщественный християнский ходатай, неусыпный собратский попечитель, ниже, любезный наш господин, Илья Алексеевич, жалость наша неисповедимая, позван Богом к преселению на он век, скончал жизнь свою, всех увеселяющую, августа в 21 день, 7317 [1809]. При его кончине чета старейшин одр обстояли, и прочии все потоки слезныя проливали. Он же очи ко образу возводил прося ходатайство о мирном и спасенном исходе души своея, непрестанно знамением оружия победоноснаго ограждался. И как на исходном каноне запели – исходить душа начала, и в самый отпуст преставился. Пошли скорыя по всему граду печальныя вести. Что тогда именитаго дворянство посещало изчислить не можно. И как настало время ис дому во обитель переносити наполнились народом полаты, намножился и двор весь, повсюду улицы все заняли; потребовалось самих квартальных и при них солдат. Они весь народ распоряжались чрезвычайным трудом и с великою трудностию едва до моленной донесоша. И совокупльше лики певцов избранных плачевную стихеру от лица сиротствующих всех шестым гласом воспеша, которая нарочито ему сочиненая» [Сборник Попова, том 1, стр. 157]. «Тогда услышались во многих предстоящих толь плачевныя гласы, камень во умиление приводящие, тогда до глубокия нощи каждый человек взирал на лице его. По всем том из женской обители, старицам и девицам, дана была полная свобода на зрение. И какия тамо жалостныя речи не употребляли, и какое приятное объятие гроба не чинили, всякому можно знать их свойство. По прошествии же печальныя тоя нощи ведал всяк, что в понедельник будет погребение. Начаша от самаго света собиратися настоящие известнаго места гражданство. Двор весь и моленна народом неизчисленным множеством наполнен был. Невероятно многим будет, однако объявляем: старейшие люди уверяют, которые могли, что при погребении князей и самых монархов не было столько простаго там народа. Здесь сбылись слова одного мудраго сына века сего, как он пишет: «В ком прямая добродетель, весь народ тому свидетель». Настало время когда быть погребению, отдан офицерам и солдатам от настоятелей приказ, чтоб моленну от народа очистить, и то с трудом выполнили. Поставили у всех дверей солдат и самых настоящих офицеров, и как в колокол зазвонили взмятеся весь народ, а паче наши християне, печалию и робостию чудно сказать, яко о сроднике одержими бяху. Тогда к офицерам преставлен настоятель, Алексей Терентьевич, чтобы кроме християн никого не впущать. Однако усилилось именитое гражданство, мнози из мирских лучших так же впущаеми быша. Не оленился тогда быть и сам обер-полицмейстер, генерал-майор, Ивашкин, и полицмейстер с другим генералом, московским комендантом: и умильно смотрели на лице его. И когда продолжался чин погребения, упомянутыя сановники вышли из моленной и ожидали вне оныя. Так же и все множество безчисленное народа и по окончании для проходу место едва могли очищать майоры, офицеры и солдаты; и наперед шли с попечителем Заикиным, те генералы. И против врат женския обители нарочито остановя гроб для прощения, и выведены были все старицы и девицы, дали им издали прощатся, каковыя со слезами гласы простирали: словом сказать самая тварь нечувственная не не причастна была той печали, и самыя господа генералы удивляяся головами зыбали. И скоро, как подняли гроб, завопили они паче, и паче уже не лепыми гласы, ударялись о землю, конечное разлучение терпеть страдали, и едва могли с места во обитель проводить от множества безчисленнаго народа, уже и врата обители заперли, и как с трудом донесли до могилы, и отправили законное, возвратясь во обитель, с печалию и слезами несли образ Пречистыя, и поя стихеры: «Не остави нас в человеческое предстояние»; и к тем храмовые. Дали конечную память преставльшемуся от нас, не оцененному и всех избраннейшему господину сиротскому главному попечителю, Илье Алексеевичу, а во святом крещении Василию». Дозде вкратце выписано от послания отца Л. Т.
Сия кончина главаго строителя и попечителя не токмо единыя сия обители, но и всему християнскому состоянию причинило самое прискорбнейшее чувствование, ибо от того время скорби и напасти начали умножатися, и как внешния враги, такожде и лжебратия на обитель, паче же и на всю гонимую святую церковь стали вооружатися. Да и ожидати того было должно, яко являет писание [Евангелие толковое, в неделю 10]: «Егда бо, рече, вещем нашим успеваемым всем, ожидаем и преложения», кое уже в жестоком виде и начинало свое действие, о чем ниже, хотя вкратце, поясним. Зде же и еще нечто продолжим о погребении благосердаго попечителя Илии Алексеевича: «он похоронен на Преображенском кладбище, близ каменной часовне. Памятник над его могилою вытесан из дикаго камня в форме гроба, на крыше котораго изображен староверческий крест, а по сторонам надписи. В одной из этих надписей, с левой стороны гроба, сказано: “что святая церковь, или духовное християн собрание, есть одно тело, котораго глава Христос, и что всякое несогласие между християнами – болезнь церкве, оскорбляющая главу ея; так старайся убегать всех тех случаев, которые удобны к воспалению вражды и раздоров”». Дозде от истории печатной [Сборник Попова, том 1, стр. 173].
Сей памятник обнесен железной решеткой, и на высоких железных стойках зделана тоже железная крыша. От восточной страны, близ самаго памятника, имеется малая деревянная часовня со стеклянною дверью, в ней поставлен крест деревянный, резной в полный рост человека. Пред сим честным крестом имеется неугасимая лампада. Такова суть внешняя память устроена тщательному киновийскому строителю и усерднейшему о всем християнстве попечителю от сынов гонимыя церкве, юже он от насилия мира защищал, и за таковая добрая его деяния от духовнаго потомства вечное помяновение стяжал. Такожде и мудрейшия сынове века сего описывают с похвалами добрая деяния его, следующими словами: «Илья Алексеевич Ковылин муж был даровитый, смелый, предпреимчивый и примерной ревности благочестия, не раз торжественно поражавший лжемудрие никониазма в глазах вельмож и обожателей его, не раз побеждал явныя заблуждения старообрядцев, и слепоту нетовщины. Он был общий и отличный покровитель всех церквей староверчества от владык мира и насилия иерархии его, тщательный строитель великолепнаго здания в Москве, на Преображенском кладбище, пожертвовавший оному своим имуществом до трехсот тысяч рублей на вечное его существование. А при сих важных отличиях был редкий собиратель священных предметов древности, и предков своих творений соборов, и мышлений догматства и обычаев. Милость его к страждущим за благовестие православия и угнетаемым бедствиями мира озаряла все пути его и возносила его до небес. Отличия его и слава за доблести гремела во всей Москве, и раздавался звук ея в Петрополе, Риге, Астрахане, Нижнем, и в прочих странах благочестия. Он жил в мире не для себя, а для церкве и для ближних. Словом, это был единственный человек, ради церкве и ея созиданий, разительное его красноречие, живая память, ясный и приятный тон в убеждении истин пленяли каждаго в послушании ему, и обращали на него глубокое внимание». Дозде внешних болие правдоподобное речение изъявляет, а несогласующия истине оставляем.
Отселе паки поведати как о святей обители, так и о ея руководителях продолжаем.
И едва оная многоскорбная печаль, еже о кончине всеобщаго християнскаго попечителя, миновала, то вскоре и другая великая беда устрашать начинала: понеже двенадцатый год приближался, и слух о нашествии галат начинался. И когда по Божию попущению оныя супостаты Божия в Москву вступили, тогда из нашея богоспасаемыя обители, дающе место гневу, в различныя страны себе удалили. Так что из двух тысячь обоего пола ея обители осталось двадесять или тридесять человек [Сборник Попова, том 1, стр. 174], кои по псалмопевцу: возвергали печаль свою на Господа [Пс. 54], и глаголаху с пророком: «Аще ополчится на мя полк не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, нань аз уповаю» [Пс. 26, ст. 3]. И паки: «Аще бо и пойду посреде сеней смертных, не убоюся зла, яко Ты со мною еси» [Пс. 22, ст. 4]. В сих богонадежных киновийских обителях и уже тогда по истине пленников был словущий отец, Пафнутий Леонтьевич, иже велию веру ко Господу стяжал и в то самое время оное малое стадо во уповании на Господа Бога подтверждал и к добрым делом, паче посту и молитве, поучал: пищи же мало употребляти по захождении солнца совет давал; понеже с настатием нощи пленующии воини несколько умолкаху. А сии богоподвижнии воини Христовы полунощныя молитвы ко Всевышнему Владыце приношаху, ибо он сам пророческими усты повелевает нам сице глаголя: «Призови мя в день печале твоея, и избавлю и прославиши Мя» [Пс. 49, ст. 15]. И воистину избави тогда Господь всякаго злаго обстояния, всем сердцем уповающим на милость Его [Бытия, гл. 8, Исход, гл. 8, ст. 22]. Яко же сказует нам писание, что верных Бог избавляет от всякия напасти, и убийства нечестивых [Апостол, зач. 66, ст. 7]. И яко же ненаветных от враг и безпечальных сохрани Господь, всем сердцем призывающих Его, тако и самою обитель, со всеми ея богослужительными храмы и с находящеюся в них святынею соблюде неразхищено. Аще прихождаху во обитель нецыи от французскаго воинства начальницы и обзираху сокровищная самонаграждения, но обаче Божиим заступлением чюдесне отводими бываху, яко же поведаху нам самовидцы, егда оптичущим им богослужительныя храмы и обзирающим драгоценная украшения вместо позлощенны серебряныя на иконах ризы и оклады, они их медны быти мняху, и охуливше не взимаху. От некиих же болие злейших и враждебных воинов, яко же поведася, скрыто бысть, Божиею силою, среди обители соборная моленна, и они поведаху другом своим, яко среди двора видяху гору превелику. И тако, Божиим заступлением, во время онаго варварскаго нашествия наши сиротскии обиталищи, всею цветущею красотою одетыя и видом своим зрящих увеселяющия, не до малейшаго даже и ово́щия вреда не приявшия, спасошася. Всей российской империи ведомо бяше и благочестивым убо в радость и в подтверждение, а строптивым в зависть и негодование, ибо неции от внешних писателей оное Божие сохранение отвергают и некиими злыми пороки облыгают: яко бы тогда старейшины златом Наполеона закупили, тем и обитель от разорения, и живущих в ней погубления свободили. А того не внимают, что писание взывает, яко имение в день ярости не помогает, правда же от смерти избавляет. И паки: аще не Господь сохранит град, всуе и самый бдительный страж пребывает [Пс. 126]. А враждующия на правоверных искони Божиих чудоделий не признавали, но християн злейшими волхвами и чародеями порицали. Мы же, православнии, дивному Богу, в славах творящему чюдеса, хвалу возсылаем, и благодарныя молитвы Исусу Христу и рождшей его Пресвятой Деве, о сохранении обители навсегда приношаем [Отеческ. Писм., часть 2, гл. 1]. От того время положено отцами чтобы ко оной вервице, положенной в християнском житии, во главе 31, на каждый день прилагать и еще 17 поклон с молитвой: «Богородице Дево радуйся». Да к тому же и старейшину онаго малаго стада, Пафнутия Леонтьевича, вооружившагося противу врагов постом и молитвою, память восхваляем и молитвы о упокоении души его ко Господу возсылаем. Рцем же и сие: яко оный отец многих душ ко спасению был споспешник, и напоследок свою обитель создал и от Бога данную ему благодатиюм сокровенная и хотящая збытися предсказал. Повемы же сие: яко о излиянии онаго фиала гнева Божия от всероссийскаго врага, французскаго державца, губящаго тогда все наше любезное отечество, а паче преимущий славою столичный град Москву. Такожде о милостивной, человеколюбной щедроте Божией, чудесне и дивне излиянней на наши святыя обители, за неколико время предрече некто премудрый Божий человек: иже миру буий мняшеся быти [Апостол, зач. 125]. Егда оный раб Божий [Иван Кузмич] обычное свое юродство творяше и многим многая предглаголаше, хотящая быти, яже избывахуся во время свое, и того ради прослы слово о нем повсюду, даже и по днесь мнози поведают некая им предсказания и по событиям имеют веру велию, и от гроба его взимают землю на избавление бед и болезней. И по днесь видимо есть место на могиле его отнюдуже берут землю. Оный то тайный игоносец Христов, егда приближалось время онаго гнева Божия, скрыся от всенароднаго юродства на неколико дней, и помышляху неции, яко негде умре юрод, и на мнозе искаху его, и незапно обретше (его) на верху некоего здания, в великом прахе и паутине седяща, согнувшагося зело в теснем месте, под железною крышею, идеже в знойныя дни палим бе от жару солнечнаго и от многаго неядения вельми изнеможе. И егда изведоша его оттуду, и он не можаше право стояти от многодневнаго седения в ниском месте, и наченшим его вопрошати с великим сожалением и слезами: чесо ради отче тако себя мучеши таковою теснотою, алчбою и жаждою. Он же ту ничтоже поведаше, но обычном глумлением нечто отвещеваше, последи же некиим, могущим тайну его сохранити, откры, и со слезами исповеда, яко грядет гнев Божий, коему подпадут многия грады и люд. И егда начали его просить усердно: отче помолися Господу Богу, дабы Он Своим милосердием помиловал сию обитель и живущих в ней; и он едва умолен быв, изрече сице: яко молихся Господу Богу и обитель сия сохранена будет от разорения и слободы близ ея; Преображенския и Семеновския тако соблюдены будут, а еже о людех не вемы что рещи. Таковое его предсказание збыся во время свое, яко же выше явихом, суть же и ина многа яже превеща оный благоюрод, о них же несть ныне глаголати подробну, точию рцем сие: что он скончал узкий и прискорбный путь здешния жизни в лето 7348 [1840] и погребен бысть на нашем, Преображенском, кладбище, не доходя часовне, на правой стороне. И егда минова оный гнев Божий, тогда во обитель гонимыя чада паки начинаху собиратися, духовныя же их чадолюбивыя отцы посланиями в далния страны о целости обители и о приближенных слободах извещаху, и паки на жительство во оное душеспасительное пристанище призываху, паки же и церковныя обряды и чины, правилы апостольскими и стоическими утверждаху. И во 2-е лето по отшествии неприятеля московское общество на умирение некоторых разногласий и распрь собрашася при богадельном доме, в храме Успения Божия Матери, из обывателей онаго сот до пяти человек или более, и по бывшем с обоих сторон долговременном разсуждении, учинили мир на таковых условиях [Отеческия писма, часть 2, гл. 37, 7322(1814) лета]: 1-е, как на утреннем тропаре: «Спаси Господи люди своя», так и кондак «Вознесыися на крест» и прочих тропарех и кондаках, стихирах же и канонех, произглашати на общее лице всюду, как в Москве, так и во всех придержащихся ей странах, по содержащемуся во обители Московской обычаю, но отнюдь не произглашать по Поморски; 2-е, равно при том укреплено, чтобы по соборному установлению предков наших, с поморцами отнюдь не сообщатся, как за приятие ими молитвословия за инославных, такожде и за новоженство, и за сочинение вновь тропарей, не бывших в древних, и за поминовение во оглашении умерших, и за прочия вины; 3-е, такожде подтвердили первобытных отец постановления, чтобы новоженых без разводу, кроме смертнаго случая, не самых престарелых, отнюдь не принимать в сообщение; и прочия, яже о уставех церковных и преданиях святопочивших предков наших разсмотревше, подтвердиша [Отеческия завещания, глава 27 и 28]. В чем всем множеством християнскаго сословия единокупным началом, пропев при том на исходе стихеру «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», в вечныя роды запечатлеша, и во все страны послаша о сем соборе писма. Потом 7324 [1816] года, мая, в 6-й день, определены были из знаменитых граждан, и еще для обители усерднейшия християнския попечители: Ефим Иванович Грачев, Алексей Никифорович, Иван Михайлович Стукачев, Дмитрий Тимофеевич, Семен Федорович Резонов и Калина Несторов. И они собственноручно подписались к сохранению законов и обычных християнских положений. Определение же к попечительней должности производилось следующим порядком: в соборной или больничной мужеской моленной, при собрании настоятелей и почетных граждан. Старейший настоятель по обычном Начале, замолитствует, а праваго лика головщик глаголет: Аминь; и поют по крилосам храмовыя и литийныя первыя стихеры, при возжжении свещей у всех икон: в то время вступающии на должность полагают Начал и благословляются у настоятеля, на управление дела; по окончании же стихер крилици, на сходе, поют «Владычице приими молитву раб своих», таже «Слава и ныне», «Господи помилуй» 2, «Господи благослови», с поклоны поясными. Настоятель глаголет отпуст, на нем же поминает храмовых святых, им же петы бяху стихеры; по отпусте же клирици: Аминь, «Господи помилуй» 3. И по сем вси вообще полагают Начал к благопослушному повиновению новоопределенных. Таким же чином бывает и провождение во отъезд настоятелем и попечителем на кое-либо благословное дело. И сим тако бывающим, но к великому душевному прискорбию елико православнии ревнующии по отеческих законех церковь святую от всякаго зломудрия и разногласия тщахуся соблюдати, толико нечестивии самомнители подвизахуся на оную зле наветовати, ибо виде враг и добра ненавистник диавол, яко оным вышеявленным собором правоверных, и избранием попечителей, подобно как мечем духовным рог его был сжат. Тогда плевелосеятель воста иною на правоверных казнию, восташа бо по Божественному Апостолу [зач. 295]: «Человецы самолюбцы, величавы, горди, хульницы, прелага́таи, невоздержницы, не благолюбцы, предатели, нагли, напыщени, сластолюбцы, паче нежели боголюбцы, имущия образ благочестия, силы же его отвергшиися, водимыя похотьми различными, противницы истине». Самобрачнии новоженцы глаголю, их же число тогда умножашеся, и оправдание не священнословнаго брака утверждашеся, не толико в мирских человецех, но паче и в духовных, их же именует писание: свет миру; но якоже иногда светлая денница во тме преложися, и от истинных пророк неции лживи быша, и от апостол нынешний век возлюбиша [Апостол, зач. 299, Пролог, 9 генваря], тако и в сии лютыя времена, в гонимей нашей святей церкви, по апостольскому гласу [Апостол, зач. 49]: От вас, рече, самих изыдут мужие, развращенная глаголюще изыдоша тогда по истине неции, от нашея гонимыя святыя церкви, не точию любогреховнаго любострастия деянием, но даже и иномнительным безсвященнобрачныя тайны оправданием [Церковн. Истор. Сисоев., лист. 40]. В главе же таковых от духовных правителей бяху: Василий Емельянов, Василий Монин, Василий Скачков и прочия [Сборник Попова, том 3, стр. 2, 2-го счета]. А от могущих мира: Лаврентий Иванов, который яко же иногда в первобытной церкви Александр Ковачь [Апостол, зач. 299], а Лаврентий последний, много зла сотворил. Началом же оныя вражды было желание самобрачных еже бы от своих единомысленников определить попечителей в нашу обитель, с намерением превратить содержимыя в ней уставы, егда же блюстители православия в том им отказали, тогда оныя наветницы весма злобными клеветами пред могущия властию на соблыгали, и аще бы не десница Вышняго промысла, и сиротския молитвы поспешествовали, могла бы тогда оноя клевета в крайнюю беду всех довести [Отеческ. Писма, часть 2, гл., 67, 85 и 92]. Был же случай в Помории, древле из среды их привнити клеветникам Халтурину и Круглому [Раскольнич. Дела, стр. 313, Выгорецкая ист. кожанчикова, стр. 380]. Однако непосредственно сии превышали и оных, колико было грозы и злобы от оных враждебников в подробности сказать недостает разума, понеже и в самые присутственныя места премного узлеплетенных прозбах все было объяснено, и наедине каждому командиру, всетщательно всякия малости и мелкости опасных наших християнских обрядов в лицо откровенно предизъяснено. И егда оныя злобныя враждотворцы своими клеветами пред нашею столичною властию мало успевали, то оныя злобы начальник Лаврентий отправился в Петербург с прозбою, самою ядовитою, которую он дал написать 200 рублей, и с такими точно выражении, как отступник от монастыря поморскаго Кругляков подавал на скорбление всем християном, по которой тогда и была комисия прислана в монастырь [Поморск. Истор. Кожанчикова, стр. 407]. И каковы беды и скорби душевныя и телесныя причинила оным пустынножителям; Богу единому точию ведомо. Так и оный Лаврентий хотел учинить нашим обителям, ввести в богослужение к нам никогда не содержимое [Отеческ. Писма, часть 2, гл. 108]. Так же и браки хотел утвердить, чтобы простолюдину венчать. И в таковых будучи злобных и душевредных обстоятельствах духовныя старейшины повелеваху всем православным християном, паче живущим в обители нашей, призывати Господа Бога в помощь псалмы Давыдовыми, и молебны соборне, келейне же, грамоте не умеющия, Исусовою молитвою просити Владыку от старца до младенца. Яко же Он Сам повелевает [Пс. 49]: «Призови Мя, рече, в день печали твоея и мзбавлю тя, и прославиши Мя». И воистину не призре тогда Господь в скорбех призывающих Его, но чрезвычайною своею всмогущею десницею чюдесно от конечнаго разорения обитель нашу избави, и живущих в ней безбедны сохрани [Отеческ. Писма, часть 2, гл. 92,107 и 108]. Склонил к нам ни милость сердеца светлейших особ: князя Лопухина и графа Тормосова, и проч. А потому врази наши, аще и зельне належаху и своими злоплетенными доносами, все дистанции судебныя прошедше, даже и до самаго Монарха оныя злобныя клеветы доведше, и до 4-х летную самогибельную брань продолжавше. Но абие Божиею силою сеть их сокрушися и мы избавлени быхом. Но аще аки велиею бурею, и причинили некий вред, как самой обители, строжайшим надзором властительским, такожде и некоторым честным членом ея дальним заточением, коему и подвержены были управляющий богодельным домом Иван Федотович, и учительный настоятель, Сергей Семенович, который вельми горек был оному новоженскому сонму; он поражал их суемудрие яко лев зайцев, и яко высопарный орел маломощных птиц. И якоже поведает писание преподобнаго Ефрема — копие быти на первобытных еретиков, а сей на последних – самобрачников. Он был мудрый и неподражаемый начетчик, все переведенные с греческаго на словенский язык были известны сему замечательному мужу, неоспоримым свидетельством служит к сему его сочинению, вышеупомянутая книга, Пандекто, в которой помещено 655 глав богословных. Пандектою совершенно оправдана наше церковь и уличено многих иномнительное кривотолкование, в особенности же опровержено несвященнословное и самочинное бракосочетание, за что и вооружились самобрачницы на своего обличителя, изостриша язык свой, яко змии, и злобною лжею пред царем оклеветаху. Якоже и еретицы творяху, и по апостольскому гласу: яко лукавии человецы успеша на горшее. Ибо самодержец именным указом [1820 г., 3 июля] повеле сотворити: чтобы по случаю доносову сделанных на Сергея Семенова Гнусина, скрывавшагося в богодельне и разглашавшаго нелепыя толки учения, употребляемо было всевозможное старание к отысканию его, и чтобы дело сие было самым строгим образом изследовано, и виновные, как в изобретенном вредном учении, тако и распространявшии оное, предани были суду и преследованы пред оным соответственно преступлениям их строгостию. На подлинном, собственною его, императорскаго величества рукою подписано: Александр. Таковое высочайше наистрожайшее повеление было исполнено. Премудрейший благочестия учитель, и всякия уклонности от православия ревностный обличитель, заточен быв в монастырь, на соловецкий остров, и пребыв там 16 лет, до кончины своея, последовавшия в 7347 [1839] году, 27 июня. Жития его было 80 лет с небольшим. И тако оный ревностный, всякия неправды попиратель, и священнаго писания люботщательный снискатель, Сергей Семенович, а во святом крещении Иоанн, скончал свой страдальческий многотрудный путь, и возлег тамо до общаго воскресения отдохнуть. Сего страдальческаго пути он издавна всеусердно желал, егда прочих, за истинную веру страждущих, к терпению подтверждал, и наконец о себе тако в оном увещательном послании написал, его же буди и нам грешным негли некогда достигнути, ей буди, ей Аминь [Отеческ. Писма, часть 1, гл. 9]. Сия многострадальныя слова были сказаны им за 24 года до его заточения, а до скончания его за 40 лет. С ним же вкупе страдавший в оном заточении Иван Федотович, а во святом крещении Кондрат, купно во едином месяце и житие скончавше, точию за 6 дней впреди, сиречь 21 июня. На сих последняго время изгнанниках исполнилось предсказание апостольское, яко хотящии о Христе благоверно жити, гонящими будут, а лукавии же человецы успеют на горшее [Апостол, зач. 296]. Сии злобныя успехи заточения и страдания оных проповедников истины, такожде и стеснение властительское нашея обители, произошли не от внешних, но от внутренних врагов гонимыя церкви, от членов иномнительной новоженческой сонмницыи, кои издавна зело противишася истинному учению. Но при жизни главнаго пепечителя, тезоименнаго ревнителю боговидцу Илии, яко кроты подземныя не могли изникать из своих язвин. По отшествии же его внидоша, яко волцы тяжцы нещадяще стада Христова [Апост., зач. 44], кои своим действием уподобишася по Златоусту: «Яко убившии пророки и апостоли». Тако ни отмещавии словеса их ученьми нечестивыми и лукавыми делы, злейши бо суть втории первых, яко не ко оным точию согрешают, но к хотящим спастися. Таковому же злу быша виновницы, онии возмутители церковнии, самобрачницы. По тонку же о сем глаголати краткости ради оставляем; желающии же в подробности видети о таковом возмущении, да почтут в книге Отеческих писем, 2-я часть, от главы 67 и до 174.
По сем, яко же по прошествии темныя тучи, и по утолении великия бури, возсиял свет праведнаго солнца и своими лучами коснулся сердец ожесточенных, причинявших оное зло Церкви, ибо нецыи от враждебнаго полка Лавреньтьевскаго пришли в раскаяние в своих злодеяниях, и принесли сознательную покорность пред старейшины обители, со обещанием впредь быть благопокорными последователи всех содержимых в ней уставов и обрядов, положенных первобытными отцы [Отеческия писма, часть 2, гл. 101 и 102]. И таковыя обеты каждой из примиряющихся подтверждал своеручным подписом. В тоже самое время, сиречь, 7325-й [1817] год, настоятели и попечители, и все православнии граждане видевше таковое вражеское нападение на стадо Христово, аще уже милостию Божиею и миновало оное, и умолкоша врази наши, но бояшеся дабы и впредь не пострадала церковь, подобно некое зло от прежде бывших вин [Книга о вере, гл. ?], сицевыя ради вины собрашася во обители, в храме Успения Божия Матери. Главнейшия собора настоятели были сии: 1-й, Сергей Яковлевичь; 2-й, Лука Терентьичь; 3-й, Алексей Терентьичь; 4-й, Афанасий Антоновичь; 5-й, Сергей Семеновичь; 6-й, Тимофей Емельяновичь; 7-й, Симеон Казмичь; 8-й, Мирон Ивановичь; 9-й, Симеон Фомичь [Отеческия писма, часть 2, гл. 37]. Сии девяточисленный лик духовных правителей всегдашние жительство имели во обители. Попечители же оныя из первейших граждан живяху во своих домех, прихождаху же во обитель для обсуждения нужных дел единожды в неделю. Из них же в то время 1-м был Ефим Ивановичь Грачев; 2-й, Алексей Никифоровичь; 3-й, Иван Михайловичь Стукачев; 4-й, Дмитрий Тимофеевичь; 5-й, Алексей Терентьевичь Кросиков; 6-й, Симеон Федоровичь Резонов; 7-й, Алексей Тимофеевичь Носков; 8-й, богодельный казначей, Калина Несторовичь. На сем соборе подтверждено было, чтобы последовать преданиям святыя соборныя апостольския церкви и предков наших, старопоморских, польских и новгородских, и прочих. Вся их чиноположения и уставы, и обряды писанныя и неписанныя, сиречь, обычныя, непреложно и неизменно сохраняти, зане многая и неписанная церковь в себе имать [Апостол Толк., зач. 276, лист 894, Матфей Иеросалим., состав 8-й], и сия вся на грядущия лета всем послушающим их, сыновом церковным, уставиша и положиша завет духовный, дабы по приемству духовным настоятелем неизменно сохраняти оная. По сем, в лето 7330-е [1822], скончался старейший настоятель, Сергей Яковлевичь, муж ревнитель по законех отеческих: управлял Богом врученную ему паствою тридесят лет, со всевозможным тщанием охраняя Церковь Христову от врагов внешних и внутренних, и от лжебратии, яко же выше поведася. По нем же поставлен бысть всеобщим християнским советом в главное духовное настоятельство отец Алексей Тимофеичь [Отеческия писма, часть 2, гл.170]. При его правлении тоже некоторыя обряды и обычаи християнския подтверждались и укреплялись, и написаны были 9-ть статей о всяком благочинии всем живущим во обители, паче же правящим чин церковной службы: тщательне и изрядне отправляти повелеша. И оныя статии, как сами настоятели, такожде и правящии уставом церковным, своим рукоприкладством подтвердиша: настоятель Алексей Тимофеев, Тимофей Емельянов, Мирон Иванов, Сидор Осипов, Ефим Григорьев, Афанасий Антонов, Симеон Казмин, Семеон Фомин, Семен Гаврилов; уставщики: Иван Марков, Федор Емельянов; головщик: Иван Афанасьев; старший попечитель: Алексей Никифоров. В сия же времена многия послания были писаны от настоятелей в различныя страны о некиих духовных делех, и оныя послании имеются в настоящее время во единой книге, под названием «2-й части Отеческих писем, в 170 главах», писанныя от 7320-го [1812] года. Сии отеческия писмы, как 1-я, так и 2-я части составляемы были премудростным учителем и страдальцем Сергием Семеновичем, ибо есть некоторыя послании его, в конце 2-й части, писанныя уже из заточения, как к настоятелем обители, также и к попечителем, во особенности к Стукачеву, и к его сыну Макарию Ивановичу неоднократно писал о некиих духовных делех. Понеже Макарий Иванович сын его духовный был, и приемник высоких добродетелей, как духовнаго благоразсуждения, такожде и телеснаго многотруднаго терпения, ибо он по писанному добровольно умертвил себе греху, а жив Богови и любви, ради его пригвозди плоть свою от юности к одру, и яко бы разслабленный пребыв на нем более 40 лет, яко не погребенный мертвец, даже до кончины своея. И он данною ему от Бога премудростию как живущих с ним в обители, також и приходящих ко спасению, поучал и от преданий отеческих ни единаго шагу отступати не повелевал, и в таком духе несколько посланий написал. А о прочих его добродетелех Ермилов в надгробном его слове пространнее сказал. Посем в лето 7345 [1837], 12 сентября, скончался старейший настоятель Алексей Тимофеевич, иже благочестиво пас стадо Христово 15 лет. Таже благословением его и всего братства соизволением вручено было старейшинство в настоятелех Симеону Кузмичу, в коего правление тоже отеческия предания неизменно содержали, и еще 9 статей для наблюдения и порядка во обители изложили. Из коих в 1-й, всем старейшинствующим и начальствующим во обители иметь между собой согласие, и все дело производить по общему совету, подтвердили. Во 2-й, о благочинном пении и чтении заповедали. А в 3-й чайное и кофейное питие запретили. А в прочих иная и неприличная действия, при самом возникновении отсецати повелеша, о сем тоже подпи́сом собственноручно подтвердиша, настоятели: Симеон Кузмин, Сидор Осипов, Прокофий Филипов, Мирон Ива́нов, Трофим Артемьев, Иван Яковлев; уставщики: Иван Марков и Федор Емельянов; головщики, Петр Алексеев, Матфей Антонов и Егор Петров; казначей: Егор Иванов; попечители: Алексей Никифоров, Федор Алексеев, Матфей Григорьев; и проч. [В прибавлении Отеческ. Писем, часть 2, глава 18, часть 1, гл. 5, 6 и 9, и проч.].
И сим тако бывающим, но обаче елико пекущияся о благосостоянии церковнем, стадо Христово прилежне пасяху, толико врази невидимыя и видимыя на место оное святое болие ополчахуся, в особенности же в половине 19-го столетия, егда властительское повеление повсюду угнетало блюстителей древняго православия, паче же зельне належаху на обитель нашу. Как по причине вышеизъясненных новоженческих клевет, такожде и по доносам того времени некиих зловредных людей, правительство было весма раздражено, а посему делу в 1853 году откомандировано было из Петербурга по высочайшей власти особая комиссия для ревизовки нашея обители, что и было произведено наистрожайшим образом, походившая более на уничтожение обители [Рукописная история Преображенскаго кладбища, Е. Я., гл. 6 и 9, гл. 1]. В таковый Богом попущенный гнев на обитель нашу тоже, якоже пред нашествием француза, предсказывали некоторыя мужи: Мартин А., Павел С., буйственною и юродственную Христа ради жизнь проходящии, иже ученицы бяху онаго юродиваго Ивана Кузмича. В то самое время отобраша у нас в пользу единоверцев самые наилучшия две мужеския моленныя со всею находящеюся в них святынею, и с драгоценными украшениями, а в следствии и весь мужеский двор передан был властию единоверцам на монастырь. Что же последовало в то же время живущим в обители и прихожаном оныя: о сем в подробности трудно и неуместно зде описовати. Но обаче поведаем, хотя мало нечто, о некиих болие изничтожительных происшествиях. По отбрании якоже выше явихом наших моленных приказано было изничтожить до 50 келий и прочия древянныя жилыя и холостыя постройки, находящиися внутрь ограды, а потом и больничныя полаты некоторыя тоже были сломаны, а другия закрыты. Главный же настоятель, Семен Кузмич, заточен быв в Малороссии, в Полтавский монастырь, и пребыв там 5 лет в великой строгости, идеже исповеднически и житие свое скончал в лето 7367 [1859], 13 июля. Таковому же заточению подвержены были властию и прочия как настоятели, такожде и попечители, и некоторыя из граждан християны, о них же поименно глаголати краткости ради оставляем. Рцем же точию о настоятелех, яко по главном 2-й – Егор Гаврилович заточен быв в город Вятку; 3-й – Андрей Ефимович, настоятель женской Грачевой моленной, сослан быв в Харьков, тамо и скончася в лето 7364 [1856], 11 февраля; 4-й – Матфей Алексеевич, сосланный во Владимир, тамо и скончася 4 июля, 7367 [1859] года; 5-й – Назар Николаевич, сосланный в Симбирскую богадельню, и освобожден был по прошению, на возвратном же пути, во граде Переяславле, скончался в лето 7363 [1855], 5 сентября; 6-й – Иван Яковлевич, сослан быв во град Псков, и побыв там 5 лет в великом утеснении, и по милости царской возвращен в Москву, где и скончася на 3-й день по прибытии своем, в лето 7369 [1861], 31 мая. С ним же купно заточен и возвращен быв головщик надворотной моленной, Игнатий Карпыч. Такожде и попечители главныя: Федор Алексеевич Гучков заточен быв в город Петрозаводск, Егор Константинович Егоров в город Пензу, Антон Иванович Бузин – в Харьков: по ходатайству же дщерей освобожден, на возвратном пути, во граде Орле, скончася. А Гучков и Егоров в заточении скончашася, телеса же их в Москву возвращены и на Преображенском кладбище честно погребены. И о сих дозде. [История Прображенскаго кладбища. Е. Я., главы 1, 19-27, 22, 23, 26, 31, 32, 13, 36, 29, 34, 7, 8, 29, 23, 28, 9, 10, 12].
О прочем же в сем произшедшем по Божию попущению на обитель нашу, паче же на все християнство, от 1853 и по 1863 год, сиречь целое десятилетие, писано в подробности о всех оных произшествиях в 40 главах в книге под названием: «История о Преображенском кладбище», составленной Е. Я. К., живущем в то время во обители самовидцем и слышателем всех оных произшествий. О них же ныне несть время глаголати подробно, но точию о сем с веселием сердца рцем: что вси они, упомянутыя нашея обители духовныя члены и отцы, быша последняго времени гонимыя страдальцы, и аще многи скорби и болезни во изгнании подъяша, но от содержимаго ими благочестия не отступиша, тако и живущии оставшияся во обители, предел вечных, яже положиша отцы, не преложиша и уставов, и обычаев, прежде бывших, не измениша, яже и доднесь содержатся, о чем в нижеследующей главе пояснено будет. Зде же не излишним признали к похвалной почести тогдашних обительских жителей, коих по случаю властительскаго утеснения именовали неции повсегдашними мучениками, и они будучи в таковых обстоятельствах закон християнский и предании отеческия не изменяли, и возникающия тогда учения самобрачия, от инока дивия, т. е. Павла Прусскаго, не приняли, и многия увещательныя и возразительныя к нему послании писали, хотя его и не увещали, но послежде из оных посланий для пользы християнской книгу собрали, и Цветником оную именовали [Слова отца П. Л.].
И тако окончавше сию 3-я главу, в коей мы, хотя вкратце, но с самою точностию изъявихом о согласии верования первобытных отец: соловецких, поморских, новгородских и московских, коих постепенность по начатии новизн числится от священнострадальца Павла, епископа Коломенскаго, Аввакума, протопопа, иерея Лазаря, и прочих: соловецких же более славных, и добродетельными подвиги и разумом божественнаго писания озаренных. В них же 3, по сказанию поморския истории: 1-й – Герасим Фирсов; 2-й – черный диякон Игнатий; 3-й – диякон черный Пимин; и прочия, иже древняго ради благочестия гонения прияша и в новгородских пределех, овии с поморскими отцы сожительствоваху, а неции в феодосиевом общежительстве сопребываху [История Выговской пустыни, стр. 81]. Сих же духовныя сотрудницы: Игнатий Трофимович на духовное правление, яко же поведася получил благословение от отца Феодосия Васильевича, а Трофим Иванович Кинешемский от отца поморскаго Даниила Викуловича. Сии обои, благочестиваго корене отросли, мног плод духовный сотвориша, яко же во упомянутых пустынных местех, тако и в самом царствующем граде Москве, с бывшими отцы единомудренно православие содержаху и сим ясно подтвержено, что степень московских отец, как первых, такожде и последних, живущих во обители, имело свое начало от последних священнострадалец. Почему и имеем их в равной почести, а случающиися между ними какия либо разномыслии и разногласии мы сему виною поставляем: 1-е, належащее тогда гонение на церковь; 2-е, по словам премудраго учителя Андрея Дионисовича, яко распрение подлежит человеческим немощем, кое, якоже во 2-й главе поведася, и между святыми мужи случалось, но миротворством уничтожалось. Такожде и между нашими первобытными отцы аще некое разногласие и появлялось, но любовными миротворствы прекращалось. А потому, якоже рехом, всех равною честию за едино чествуем, и учение их за едино приемлем, и уставы их непреложно содержим, ибо добре ведящии ведят, яко вси вышеупомянутыя страдальцы и отцы, от священнострадальца Павла, епископа Коломенскаго, и прочии московския, соловецкия, новгородския и напоследок нашея Преображенския обители, заточения приемшии, вси за едину древлеправославную гонимую церковь, и за святоотеческия предания страдания и изгнания подъяша, и нам непреложно оная блюсти заповедаша. И мы при помощи Божией, яже положиша нам отцы наша о древлеправославной церкве и о богослужебных уставех, неизменно сохраняем, о чем в нижеследующей главе по тонку поясним. К тому же и еще более неблазненную веру содержимую предками нашими подтверждаем, понеже как в прочих местех, такожде и в нашей обители, почивших по многих летех в земли нетленныя телеса обретаем.
Глава 4
О уставех богослужебных, хранимых нашею церковию в Московско-Преображенской обители.
В вышеписанной главе, хотя вкратце, пояснихом о степени отеческой, и о существовании обители Успения Пресвятыя Богородицы, иже в Преображенском, и о правителех оныя, кои по гласу Спасителя: яко истиннии пастыри душа своя о овцах словесных положиша, сиречь за веру истинную и за обитель сию святую изгнание подъяша. Оставшияся же жители оныя при лишении, яко же выше речеся, 2-х мужеских наилучших моленных наконец в 1865 году лишены были властию и вся мужеския обители и помещены в ограде женской, в особой полате, называемой Грачевой, при которой имеется пространная моленная, в ней же святыя иконы все помещены отданныя нам властию из мужеской обители, из 3-й больничныя моленныя. И в настоящее время у нас мужеская моленная имеется одна, повсегдашняя, а еще среди двора – соборная, бывшая женская, в коей в летнее время тоже бывает служба мужеская. А женских от седми моленных осталось 4, а именно: называемыя 1-я и 2-я, над воротами и Прокаженная. Певчих же при оных моленных имеется при каждой от 20 до 30 человек. Пищей и доходами пользуются обительской невозбранно от власти от 1864 года, а прожитие имеют вне обители, в наемных нашим обществом домех, а отцам для каждой моленной дозволено всегда проживать во обители от вышеозначеннаго года, а до того время, от 1854 года, сиречь целое десятилетие, обитель наша, яко же выше поведася, по Божию попущению находилась в великом утеснении. Теперь же по делу веры и богослужения хотя несколько и посвободнее, но на всегдашнее жительство во обитель принимать не дозволяется от 1853 года. А потому настоящих записных жителей осталось весма мало: мужескаго полу – 7, а женскаго – около 70 человек. В настоящем 1877 году хотя и есть слухи о разрешении на прием во обитель, но на деле еще не имеется. Таковы суть сего время обстоятельства нашея обители. А еже о минувшем стеснительном и изничтожительном произшествии зде пояснити признаем не совместным, рцем же точию сие, яко в то гонительное время, как начальницы обители, такожде и подначальнии, вкупе со святыми отроки вопияху ко Господу: Яко праведен еси о всех, их же сотворил еси нам, и вси судьбы Твои истины, по вся яже наведе на ны, и на обитель святую отец наших [Пророк Даниил, гл. 3]. Яко истиною и судом навел еси сия вся на ны грех ради наших и предал еси нас в руки враг беззаконных. Дал еси нас яко овцы снеди, и в языцех разсеял еси [Пс. 43, ст. 11,17]. Но аще сия вся и приидоша на ны, но не забыхом Тебе, и не неправди́хом в завете Твоем, и не отступи вспять сердце наша, сиречь, аще нецыи изгнания и заточения прияша, а друзии в самой обители многая злая претерпеша, но от закона святоцерковнаго и от уставов, яже положиша нам отцы наша, не отступиша. Сии святоотеческия богослужебныя уставы, как являет нам история, уже гонимыя святыя церкви, что оныя соблюдаеми бяху в московских християнах и в самое гонительное время, еще до начатия Преображенския обители. О сем свидетельствует и внешний историк [Из истории Преображенскаго кладбища. Печатана в тип. Каткова, стр. 8]: что «собирались старообрядцы для богослужения в доме Зенкова, который устроил для своих единоверцев общественную молельню, но эти собрания производились тогда с соблюдением величайшей осторожности от власти». Дозде от истории. Когда же по милости Божией возъимело свое начало, уже с дозволения внешней власти, християнская обитель, тогда старейшия строители и учредители оныя заботились: как о устройстве богослужительных храмов, также и о уставех богослужебных, дабы оныя, по случаю неимения видимаго священства, исправлялись в приличии простолюдину повсюду единообразно. И посему делу от московскаго християнскаго общества, на другой год по заведении обители, послан был Илья Алексеевич Кавылин с седмию товарищами в Выгорецкую поморскую обитель для изследования и соображения богослужебных уставов и прочих чиноположений християнских, приличных настоящему последнему времени, где и пробыли 8 дней [Сборник Попова, печать в 1840 году, том 3, стр. 91], а по християнской истории – 6 недель, с великим вниманием и тщанием обозревали во оной обители как богослужебныя уставы, такожде и всякия обряды и обычаи християнския. Но как уже в то время в Даниловом монастыре, по принуждению власти, молитвословие инославных вопреки их предков было принято, а потому Кавылин с монастырскими в ядении и молении не сообщался, и предлагал им оставить некоторыя принятыя ими вновь противузаконныя действия, и при отъезде оставил им 16 статей по сему делу, в коих главныя были три: 1-е, молитвословие о внешних; 2-е, без крещения умерших поминовение; 3-е, незаконно поженившихся в сообщение приятие. И по оставлении оных вин возможным признали зделать с ними примирение. И так осмотрев быт Выговскаго общежития и заимствовав из него некоторыя первобытных отец учреждения казавшимися ему полезными. И по всем оном Илья Алексеевич с товарищами обратно поехал в Москву. И от того время во обители московской уставы богослужебныя и прочия чиноположения более согласовались с Даниловым монастырем, исключая точию каких-либо, выше явихом, принятых ими нововводств. А еще более подтвердились и улучшились когда во обители проживали учительныя и словущия отцы: Петр Федорович, стародубския обители, и Трофим Иванович Кинешемский, ибо первый от них – главный член стародубскаго общежительства, в коем вси уставы и обычаи имелись с поморскими согласны, понеже в стародубском общежительстве были некоторыя жители, бежавшия из поморскаго монастыря во время утеснения Самарина, а последния, т. е. Трофим Иванович, яко же выше явихом, поморских отец был благословения. А потому ясно показует что московския Преображенския обители, как отеческая степень, такожде и церковныя уставы, согласныя с первобытными поморскими и новгородскими отцы, исключая некоторых обычаев страна стране несогласных, сие и в первобытной церкве случалось, но в вину не поставлялось [Тактикон, гл. Християнския древности]. А еще более изыскано и объяснено, в окормление и красно упражнение, благолепнаго церковнаго чина установление приснопамятным отцем и страдальцем Сергеем Семеновичем, ибо он многими леты люботщательне собрал богодухновенную книгу, Устав, сиречь, Церковное око, во спасение всему православному роду християнскому, иже грех ради наших благодатнаго и видимаго священства лишенных, в сиротстве же и оскорблении по всей земле разсеянному, добре же памятствующим и ведящем, и усердствующим, и желающим по чину древлегрекороссийския восточныя церкве соборне службу церковную отправляти. Начало же онаго собраннаго устава имеется от древле (православнаго) печатнаго великаго Устава, печатаннаго при Иосифе патриархе, в лето 7149 [1641], и его служебника. Таже пополнен древлеписменными и печатанными при патриарсех Филарете и Ермогене изданными уставами, к тому же и от дванадесяти миней Иосифовских служебных, и от различных старопечатных октаев, часословех, миней праздничных и общих, трифолоев же и триодей древлеписменных Сергиева, Кирилова, а паче Соловецкаго монастырей, уставами и другими многочисленными древлепечатными и древлеписменными книгами, и тако к вожделенному концу приведено. Написался оный устав со всетщательном вниманием и разсуждением разума в лето 7321-е [1813].
И да не возмнится некоторым излишнему быти оному собранию уставному, яко от тех же уставов церковных собранному. Но о сем добреведящии богослужебный устав ведят яко велие различие есть обычая и обряда монастырскаго и устава богослужебнаго, кроме священства простыми людми действуемаго, а потому оный многосложный устав яко великий светильник в полунощное время вознесенной, и яко на свещнице во обители Богородичной положенной, и светит яже внутрь России, во общежительных обителях, и яже за пределами оныя. Ибо от онаго Устава яко от неистощимаго источника могущии полезная себе и прочим почерпали и нашея обители знаменитыя уставщики: Федор Емельянович и Иван Марков; оный Устав в подлиннике себе скопировали. И в последствии более благоразумныя любящии ведение уставное: главный конторщик Нестор Иванович и многотрудный Макарий Иванович, и милостивный человеколюбец, отец Мартин Степанович вельми оный устав восхваляли и многополезным его в настоящее время признавали, и таковым достоинством онаго устава впоследствии некто от общежителей, Егор Яковлевич, всеусердно внял и своим тщанием еще три книги с того устава скопировал, и более любящим правоту уставнаго богослужения оныя книги раздал. И сия суть яже о Уставе богослужебном и яже о прочих книзех, составленных отцы нашими, о них же в третий главе отчасти прояснихом. Мним яко провидением Божиим избранному малому стаду Христову в некое умиленное и древняго святолепнаго християнскаго крова подтвердительное познание оставленныя, коими всю християнскаго нашего сонма землю облистовают, широтою же Божественнаго писания просвещают всяку душу правоверную, и яко корабль от Владыки уготованный всем утопающим буестию разума на восприятие бывает.
И так описав кратким очерком истории нашей все лица, которыя были столпы нашей гонимой церкве, кои сохранили нас, как своею богоугодною жизнею, такожде и вышеявленными поучении: от потока горких вод, сиречь, иномнительнаго и враждотворнаго учения, кои по словам Спасителя [Матф., зач. 11]: велики будут в небеснем, понеже они сотвориша и научиша. Ибо и Сам Спаситель наш прежде нача творити, потом же и учити [Апостол, зач. 1]. Каковых же их суть бяху духовныя подвиги о сем хотя и вмале пояснено. Яко овии от них страдальческий путь прошедше, какови суть по многочисленных московских, поморских, псковских, от новгородских же краткости ради приведем точию от страдальца Феодосия Васильевича и его ученик, Илию Яковлевича, иже от соловецкия обители, житель же феодосиева общежительства, страдалец же петербургский, иже за ребра повешенный, и друзии мнози нашея московския обители, иже того же ради древняго благочестия таковый страдальческий путь проидоша, аще и ни ранами, избиением, но в далняя страны заточением и узилищным до смерти заточением, какови суть: Сергей Семенович, Иван Федотович и настоятель нашея обители Симеон Козмич, и прочии мнози, иже исповеданием и кровми своими, яко багряницею и виссом, церковь нашу украсиша. А яже о учительных и в прочих добродетелех, иже вольным юродством [Иван Кузмич], и произвольным многолетним на одре труженичеством вся дни своя проводиша, а неции яже к скорбящим утешение и к нищим милование велие имеша [Мартин Адреевич и проч., Макарий Иванович]. А друзии ведением Божественнаго писания и изведением честнаго от недостойнаго, яко Христовы уста быша [Отец Мартин Степ., и проч., Игнатий Трофимович, Трофим Иванович, Илья Иванович, Андрей Алексеевич, Сергей Яковлевич, и проч.]. И по мере их добродетелей от Господа прославишася, яко же Сам Он рече: Прославляющаго Мя и Аз прославлю. Ибо нецыи от них, яко же выше явихом, нетлением от Господа почтени быша, а друзии прозорливства сподобишася [Отец Трофим Иванович, Иван Козмич]. Таковы суть нашея церкве главныя руководители и учители. И мы смело дозволим себе сказать, противу филипповых, что оныя первобытныя наши отцы знали писание более в несравнение с филипповыми, сколь волна больше капли, ибо они постигли лесть всемирнаго обманщика, чего усмотреть не просвященному уму свыше не возможно [Рукопись Казанскаго отца Ф. О.]. И не странное ли дело филиппан так о наших отцах думать: Антихриста постигли, а о содержании християнских обрядов будто бы ошиблись; великое им Бог открыл, а малое утаил. Грубое о сем понятие филиппан! А по сему и признали нужным в заключение изследовать по возможности: кто были учители нынешних новофилипповцев и имели ли добросовестность и плоды евангельских добродетелей. Но нет не услышим ответа истории, да и имена их тленны и жизнь безцветна, и знание слабо. Как вечны звезды на тверди небесней, так и имена наших учителей известны в истории. Но филипповския учители подобны падучим звездам, которыя в миг являются, а в другой исчезают. Когда они существуют, тогда известны, а когда переселяются в могилу, то с ними вместе тлеет имя и слава их. О чем нижеследующия история явит.
Глава 5
О филипповых християнах и о их первоначальном предводителе, старце Филиппе и его деяниях.
В сих, нижеследующих главах, мы признали нужным для любящих истину привести на среду из истории филипповскаго общества: о их веровании и учении, и о уставех служебных, и о степени их учителей духовных, начиная от первобытнаго их предводителя, инока Филиппа, коего они учение и жизнь, и свое верование в Капернаумском духе [Матф., зач. 42] похваляют, и до небес превозносят, а нашего первобытнаго отца и учителя, и его последователей в самую низкость низводят, и вне святыя соборныя церкве признают. Того ради и потщимся пояснить от тех же источников, коими и вышеписанныя главы свидетельствовахом: да разумеют велехвальныя филиппаны яко человецы суть, и в среде того же соблазненнаго мира живут. Такожде и о учителе их, старце Филиппе, имеется немало сомнения, о отлучении его от поморских християн, о коем некоторыя, достойныя вероятия, повествователи свидетельствуют [Ответы М. И. К филипповым, на 4-ю статию]: что он не богословных ради вин из монастыря вышел, но еще до принятия тропаря, яко человек по пристрастию, о чем в нижеследующей истории с точными доказательствы, хотя вкратце, поясним. А потому и начинаем повествовати: первие, о житии и действии старца Филиппа. И для доказательства самохвальных его последователей и укорителей нашего первобытнаго отца и учителя, Феодосия Васильевича, приведем некоторыя места из их жизни и деяния, дабы тем объяснить каждому благомыслящему кое между оными учители имелось различие; и подтвердим оное от священнаго писания и от отеческих преданий, и от исторических писателей. Отселе и начинаем писать повесть о старце Филиппе, от котораго и согласие филиппово имеется.
[Рукопись поморская о старце Филиппе] В царство Петра I-го, во время войны со шведами, при реке Нарве, во оной армии, в стрелецком полку, бе некий служитель, именем Фотий Васильев. Откуду же сей бяше и от каковых родителей сего ведомо не учинися, но точию о сем поведася [История Макария Виницкаго, стр. 274]: что во время сражения виде Фотий своих конечно погибающих и приим помысл благ, еже бы удалитися, и скрыв свое имя и чин, и прииде в Выгорецкую пустыню, в Данилово общежительство, и по усердной его прозбе прият быв во обитель. И яко же прочих, тако и сего чрез церковный чин устроиша християнина и братству служителя [Отеческия завещания, гл. 59].
Зде надлежит заметить более неразумным филиппаном, кои безразсудно своего первобытнаго учителя, старца Филиппа, восхваляют и превозносят, а нашего учительнаго отца, Феодосия Васильевича, унижают и укоряют. Отселе да внемлет благоразумно всяк любомудрый читатель: о различии жизни и действиях сих учителей. Рцем же первие о сем: яже вера их обоих истинная бяше в Господа нашего Исуса Христа, и крещение спасительно, и главныя догматы православныя церкве единомысленно содержаху, за что обои страдальческую кончину прияша. Но жизнь их и деяния имеют некое различие, о чем для удобнейшаго понятия в следующей главе на статии разделим.
Статия первая
О роде и звании обоих учителей.
Словущий отец и учитель, Феодосий Васильевич, яко же явихом во главе 1-й, бяше от рода славных и благочестивых дворян; родителя же имел священным саном почтеннаго, и сам бяше служитель церкве, и по своему благоразумию, при помощи Божией, познал церковных догмат изменение, оставя свою должность и спокойственную жизнь и даже самое отечество, по евангельсклму словеси [Матф., зач. 79]: да Христа единаго приобрящет. Зде же воньми и о сем, яко же выше явихом, что филипповский первобытный учитель, инок Филипп, коего бяше рода неведом, званием же был воин самовольно удалившийся от службы царския, с самаго поля битвы, вопреки апостольскому учению, сице глаголющему [Апостол, зач. 111]: «Всяка душа властем придержащим да повинуется Господа ради; аще царю яко преобладающему, аще ли же князем, яко от него посланном во отмщение убо злодеям,..» и проч. Оный же воин Фотий изменя царю и оставя своих сотоварищей, побеждаемых быти от злодейных шведов, губивших и разорявших тогда наше любезное отечество; и в таковой будуче измене и преступлении стеснен был до безконечности, и тщался укрыть свою главу от казни властительской. Таковыи-то может быть обстоятельствы и принудили его прибегнуть в поморское общежительство и принять вся предлагаемая ему их правила, и даже рабий образ, но к сожалению в коем он немного себе удержал. Такожде и правила их вскоре им были попраны, о чем нижеследующая история явит. Таковыя-то его стеснительныя обстоятельствы, по мнению некоторых, может быть и принудили его к приятию истиннаго просвещения, и сохрани Боже естьли оное принято из належащия оныя ему нужды, то по Афанасия Великаго учению [Лимонарь, гл. 195, лист 149]: «Аще кто от неверных иных ради вин творяся веровати, таковых влагалищем тщем именуем. И по ангельскому гласу [там же]: Аще кто приимет иныя ради вины святое крещение, а неверуяй, несть ему пользы». А по Дамаскину [Иоанн Дамаскин, книга 4, гл. 10]: «в лести приходя ко крещению осудится паче нежели воспользуется». Такожде и по святому Кириллу [Кирилл Иеросалимский, в Слове предогласительном к просвещению]: «Приступи бо рече к сей купели и Симон Волхв крестися, но не просветися, и тело омочи водою, но сердце не просвети Духом, сниде телом и изыде, обаче душею не спогребеся Христу, ниже совоста»́. И да не возмнится некоторым яко сии речении святых доведохом во уничижение старца Филиппа, яко он сим подлежит, ни, сего не утверждаем. Но случитися яко над человеком впадшем в бедственное обстоятельство не отвергаем. Но то и другое оставляем в судьбы Божия.
Статия вторая
Зде же паки поведуется от жития его.
[Поморская рукопись о житии старца Филиппа] Егда бяше он новоначальным послушником киновийским, прохождаше вся службы монастырския, овогда в хлебопекарне, иногда дрова сечаше и к келиям возяше, и прочия труды к послуге братии показоваше. И тако ему пребывающу и трудящуся не оставляше же и правила молитвеннаго, внимая чтению и пению с усердием, такожде и келейное свое правило по силе своей исправляше и соблюдаше. И по сем прииде сему Фотию желание еже пострищися во иноческий образ. И благоволением старейшинствующих тогда отцев пострижен быв того же монастыря иноком Давыдом [Истор. Макария Виницкаго, стр. 274]. И наречено бе имя ему во иноцех Филипп. И егда вся сия совершишася, и яко закон иноческий обдержство имеет шестинедельный пост, под началом у отца духовнаго пребывати в молчании повелевается, на свет и на люди отнюдь не выходити. И тако ему у отца Давыда некое время под началом пребывшу, и 40 дневнаго поста содержати не восхоте, своевольно нача ходити и со всеми о всем разглагольствоваше. Дозде от жития старца Филиппа, от истории поморской.
Сию историю аще неции от филиппан и не весма одобряют, но однако ведущии нашея гонимыя церкве историю справедливо подтверждают, что поморския писатели о старце Филиппе, как заметно, говорили без пристрастия истину. Понеже во время жития его во обители не скрыли добрых его деяний, как то трудолюбныя его подвиги в службах монастырских и усердное исполнение правила молитвеннаго, и наконец желание восприятия иноческаго чина. Дозде добрая деяния. Такожде и злая не умолчали, еже духовнаго отца ослушание, и еже законныя епитемии постныя недержание. Сии обои вины начало болезнем были старца Филиппа души. Понеже ослушание отца духовнаго по святому писанию [Лествица, лист 86], великое есть прегрешение, яко же сказует: «У́нее, рече, к Богу, а не к отцу нашему согрешити. Богу бо прогневавшуся, вождь наш пременити его к нам может. Тому же от нас смущену, никого же о нас молящеся прочее имамы». Тако и о недержащих епитемию, и свою волю творити хотящих слышити что поведает писание [Там же, слово 30, лист 283]: «Лучше есть отгнати от обители, нежели оставити свою волю ослушнику творити». И паки: «иже не хощет держати канон свой, да отженеши сего» [Номоканон, прав. 119,186,188]. Там же: «иже не держит епитемию отжени их, да не погибнеши и ты с ними чуждых сприобщаяся гресех» [по 84 и 5 правилу великаго Василия]. Дозде от правил.
Ни мало заключает в себе сомнения Филиппово во иноческий чин вступление. Естьли бы оное от теплыя веры и усердия, то почему же на 1-м шагу духовному отцу сопротивление, и надлежащее епитемии отложение. Таковыи то его поступки и подлежат в некоторых подозрению: xто восприятие Филиппом черныя рясы не было ли намерением более прославить себе в християнском мире, и вместо монастырскаго послушнаго рабства получить название отца и учителя. И не чудно яко таковым любочестием иногда некто в Эдеме запят бысть. Восхоте бо, рече, Бог быти и не быв [Благовещенская стихера, воззвашная]. Тако и сей новоначальный инок Филипп, аще по надлежащей тогда нужде во учительных людех, и удостоин от отец духовнаго правления быв, но обаче не много с ними в единомыслии пребыв, о чем нижеследующая история пояснит. Но впрочем рцем и сие, что мы аще сии слова из истории, о сомнительном во иноческий чин Филиппа вступлении, и приводим в разъяснение, но обаче ни добраго, ни худаго о том не утверждаем своего мнения, но в судьбы Божия сие оставляем. Но точию безмерно (вас) восхваляющим старца Филиппа, а отца Феодосия Васильевича уничижающим, скажем: что у сего, последняго, не видится в истории, при его в християнское общество вступлении, подобнаго сопротивления, а потому и нет сомнения. Сей отец, Феодосий, в истории более заслуживает похваления.
Статия третия
От жития инока Филиппа.
[Поморская рукопись] Далее поведается история, что скитским обывателям нужда бе в духовном отце, чесо ради и дозволение дано ему, отцу Филиппу, даби исправлял духовное дело по правилом святых отец и по уставлению и по обычаю со святыми согласному, без малейшаго попущения, и сице отцу Филиппу живущу, и свое дело исправляющу. Егда же старейший настоятель монастыря, Даниил Викулыч, прииде в глубокую старость и немощь, тогда благословил вместо себе на правление монастырское: Симеона Дионисьевича, и тако почи о Господе. Симеон же Дионисьевич при богоугодной ему жизни, учению риторскому и прочим свободным наукам зело многоведущь, памятию же от природы тако обогащен, яко весь древний и новый закон на языце нося. Всековарный же супостат, иже искони роду человеческому всезлобный завистник, не терпя сего настоятеля, Симеона, тако богоугодно пребывающа и братию всегда поучающа. И начаша неции от братии любоначалием недуга побеждатися, не от простых же некиих, но от старейшин, а наипаче от духовнаго иноческаго чина. Старец Филипп, нача настоятелю Симеону не покорятися, и предглаголаше всем о себе: что он на место отца Даниила Викулыча, и мене должно спрашивати и во всем слушати, и с моего благословения все творити. А Симеон Дионисович без моего совета все делает, и мене ни в чем не спрашивает и ничего не сказывает [отеческ. Завещ., гл. 59 Макария Виницкаго, стр. 275]…
… [Пропуск 1 лист]…
… все по правилом святых отец, и монастырских уставов и обрядов отнюдь не нарушать. Но к сожалению таковый отеческий завет немного удержался в новоначальном духовнике, он мало по малу начал дозволять себе некоторыя сопротивлении обычаям монастырским, и на прочия незаконности, забыв реченное [Кирилова книга, лист 372,439; Беседы Апостольск., 974,774,623; Кн. О вере, лист 224; Кормчая, лист 759; Тактикон, слово 28]: «Яко малым прегрешениям аще кто начнет снисходить, то вскоре и весь закон превратит». Что и не замедлило последовать от старца Филиппа. Он первие нача в нечесом малом сопротивитися настоятелю, Симеону Дионисьевичу, потом и в великая сниде, сиречь, в любоначалие и непокорство настоятелю и братии, и не убояся запрещения, лежащеаго во святом писании на презирателей и ругателей игумена и всех своих старейшин, и наставников [Номоканон, лист ?, правило 113, 114 и 128; Зонар, правило 97,168 и 186]. И чрез таковые его поступки вниде, яко же поведует история, великий ропот в братии монастырской. И о сем зело страшно поведуется в писании [Пролог, 5 июля]: «Аще, рече, учитель не сотворит церковь без роптания, таковый несть учитель, но мучитель». И таковому духовному мучению подвержена была тогда вся наилучшая киновийская братия и отцы, кои по многих духовных увещаниях не возмогоша любочестнаго, самомнительнаго инока укротити, а потому и определили для суждения его вин общему собору быти, яко же поведуется в житии его. Зде следует заметить, что восхваляемый филипповыми их первобытный учитель, как видно из истории, уже 3-й чин занимал, но, однако, начиная от воинскаго, и послушнаго иноческаго, и духовноотеческаго, из коих ни единаго надлежащим порядком не окончил. Сиречь, от воинства самовольно бежал, а при вступлении во иночество надлежащаго правила не воздержал, а в должности духовнаго правителя под соборный суд подпал. А охуляемый филиппанами Феодосий Васильевич при вступлении в християнский мир, как поведает история, даже и внешняя, что он за свое благоразумие у християн совершенных в почтении был. Почему и общесоборным согласием Новгородския християны духовная действия ему вручили и множество правоверных даже за пределами России паствити поручили [Андрея Охтинскаго, стр. 91]. И он всетщательно отеческое поручение исполнял, и для спасения гонимыя чады многия обители создал, за что от новолюбнаго архиерея руки страдальческую кончину приял.
Таково суть различие оных учителей в жизни и нраве, как история являет. Но ведомо нам и сие, что некоторыя от филипповых християнскому сему повествованию не доверяют, а потому и признали нужным привести во свидетельство несколько строк от внешних историков, коим ни ту ни другую сторону защищать не было резону. От зде слыши как сказует история о старце Филиппе.
«Он захотел быть полным правителем места того, и войти на степень наставника, но видно за недостатком ума ему бедному решительно в том отказали, говоря: “Иноку не прилично о чести и степенях помышлять и их желать, а когда ты от всего того отрекся, то лучше думай о душе своей, и тех обещаниях какия на себе принял”. Что слыша Филипп захотел лучше разделится с монастырем, нежели намерение свое оставить» [Андрея Охтинскаго, стр. 143]. Сие подтверждает и другий историк [Макарий Виницкий, стр. 274]: «Что Филипп, не довольствуясь данною ему духовничию властию, захотел занять самую должность настоятеля Даниила в монастыре, требовал себе от всех таковаго же почтения и послушания, и не покорялся избранному обществом настоятелю, Симеону Дионисову. Напрасно последний и вся братия киновии уговаривали Филиппа образумиться, он не переставал своевольничать, называя Симеона Дионисова папою, как похитившаго себе власть и духовную, и гражданскую, поносил и все братство».Дозде от внешних — по писанному достовернейшия свидетельства. Тем сию статию и оканчиваем, а нижеследующею, о соборе на старца Филиппа, писать начинаем.
Статия четвертая
О соборе в Выгорецком Даниловом монастыре, на инока Филиппа.
[Поморская рукопись от жития старца Филиппа] И тако повелеша лучших и разумных, и в писании ведущих людей собрати, иже в братстве живущих, и иже по скитам, призваше и старца Филиппа. И егда собрашася вси начаша вопрошати его: чесо ради настоятелю Симеону, яко же и прежним отцем, не повинуешися, и жалобы, и клеветы наносиши, и какими его винами облагаеши: о сем желаем от тебе уведати. Старец же Филипп в первых начат от духовнаго правления отрицатися, а вины предлагаше на настоятеля Симеона: 1-е, уставщики о службе церковней у него, Филиппа, не спрашивают; 2-е, без воли его мирских человек вводят; 3-е, некоторыя духовныя его дети без службы на труды ходят; 4-е, в правлении его помешательство творит – Симеон Денисов; 5-е, что он, Симеон Денисов, делает у него, Филиппа, не спрашивает; 6-е, которую старицу он, Филипп, определил замолитвовать, а он не попопустил. А больше тех вин он, Филипп, не имеет, у подлиннаго своеручно подписует: cтарец Филипп. По вышеписанным статиям настоятель, Симеон Дионисьевич, ответ пред собором чинил. На что он, старец Филипп, доказательства никакова во оправдание себе не предложил. Того ответа слушая, настоятеля оправдали, а старца Филиппа обвинили, скрепив свое определение собственноручными подписями иноцы, и простии духовнии отцы, и соборная братия, сиречь, выборная для монастырских обсуждений, и прочих бывших на соборе. Видев старец Филипп что собором правильно его осудиша, и на писанныя от него вины на настоятеля Симеона по соборному разсуждению учинишася недействительными, и так признавшись зазираше себе, и со стыдом положив начало, и яко же у настоятеля, тако и у всего собора смиренно прощашеся. И вси его с любовию простиша, и на общаго и завистнаго врага вину возлагающе, и в трапезе за единым столом обедающе наслаждающеся не так пищею, яко же церковным всеспасительным миром. Но старец в задумчивости весь от бед поникше главою, седяше и едва что мало вкушая. Собор же сей бысть за три года еще до Самаринова приезду, сиречь, в 7237 [1729] году, а Самарин приезд был в 7240 [1732] году [Отеческия завещания, гл. 59]. И немногое время после сего собора промедливше паки старец Филипп настоятеля Симеона оглаголоваше, паки винами облагаше, аще и многажды всяким образом увещаем бе от него. Такожде и отец его духовный, инок Давыд, зело возбраняше и не благословяше таковаго начинания творити. Он же к отеческому увещанию никако же прекланяшеся, уже бо отделяшеся от церковнаго соединения в молении и трапезном ядении, и в свое согласие единомысленных духовных своих детей сообщаше, понеже изначала зело малии и препростии обыватели прилипишися к нему. Некогда же ездив в скит Лумбоской, и там приобщив новоженившихся, и в духовенство их к себе прия, и прочия легкомысленныя люди от общества отлучая, присвоиваше в свое согласие [Отеческия завещания, гл. 59]. Егда же уведевшим о сем отцем всем обществом на Выге и ту прилучившимся и скитожителям: потязаху его и зазираху. Он же на всех с непокорением и оглаголанием вопияше, паче же на отца Симеона велию ревностию грубоумне дышуще. Настоятель Симеон зело подвизашеся еже бы умирити церковь, написа же преизрядное увещательное слово: Ко оным раздирающим единство церковное. Ему же начало: «Велие и горчайшее есть зло и неоплаканное душевредство, единыя церкве чадом, единаго согласия православным, разделятися». И другое, подобное сему, написа слово о мире церковном.
Благоразумных и ведущих священное писание много сими посланиями пользова. А не ведущии и препростии людие мало внимаху и единако со старцем Филиппом в раздоре Церковнем пребывающе.
[Раскольнич. Дел. Кожанчиков, том 1, стр. 356] Егда же слух пронесся в том же 1737 году, яко Иван Круглов в Петербурге на монастырь и на скиты сшивает многия клеветы, тогда старец Филипп преселися в Надеждин скит к своему духовному сыну [Поморск. рукопись от жития старца Филиппа]. И не по многом времени начаша собиратися к нему самыя нищии, бездомовыя, крыющиися от начальства. Он же приимаше их, овых в свое братство, а овых особь. К тому же многия суземския обыватели со скитов к нему хождаху и грехи своя исповедующе, он же приимаше их на покаяние и во свое согласие укрепляше. В первый убо год сам из обиталища своего зимою выезжал и хождаше по скитом, собирая на пропитание, к себе соглашаше скитян. А последние два года, то есть 1738-й, ни ездяще, и летом ни каможе изхождаше, может быть для опасения: что коммисия Самарина, по доносу Круглова, уже в Шунге стояше, близ Монастыря. И монастырцы уже знали, что им угрожает опасность в Петербурге. А последней зимы, то будет в 7250-м [1742] году, призываху в скиты его согласники, чтобы смиренно побеседовать от божественнаго писания: коих ради вин не веляше с поморскими соглашатися в молении и ядении. Чесо ради и просиша скитскии обыватели филиппова согласия из Данилова монастыря человека сведущаго божественное писание. И по сему делу от общежительства ходил к ним в скит Даниил Матвеичь, еже бы братолюбно побеседовати со старцем Филиппом от божественнаго писания о произошедшем церковном раздоре, хотяше паки умирити Церковь во едино согласие. И два краты посылаху нарочнаго по отца Филиппа, но ни тако можаху его, даже и свои ему согласующии умолити, во еже бы приити ему в скит о вышереченном раздоре посоветовати и о винах поразсудити от писания. Отрицался {Филипп} ово немощию, а ово неведомо какова ради случая, а более ожиданием некоторых монастырских людей бывших тогда в Сибири, но, к сожалению, они не прибыша. А коммисия Самарина уже со всякою строгостию, паче же рещи с тиранством, всякаго записнаго староверца с великим испытанием в допросах не единократно держаще и с пристрастием пытаху и вязаху для своей корысти за всякое слово и дело. И таковым злодейством многия и несказанныя беды християном нанесше. Тогда некто от врагов християнства зделал донос на бумаге в коммисию о филипповом ските. Подъячей же оныя коммисии просил 5 рублей на выкуп того доноса, но из скита филиппова денег не прислали, и подъячей объявил сию скаску в коммисию. Тогда иеромонах Игнатий в скорейшем времени учинил определение, нарядил посылку: порутчика и капрала, и четырех солдат, и понятых из мужей 10 человек, да дьячка вместо подьячаго, и старосте скитскому приказал дати понятых 10 человек и вожда, и тако с жесточайшим приказанием отпусти их, чтобы, как можно поймаше всех, привести в Коммисию. И егда сии начальники и солдаты с понятыми дошедше Филиппа старца жилища, тогда по приказанию порутчика и капрала вдруг свирепым образом нападше, начаше сещи врата и окна, и егда сии услышавше, в затворе бывшии, един из них сотвори молитву Исусову трижды, благословения прося зажещи, и к третьй молитве отдан бысть аминь, и рече: Бог благословит. Сие благословение было на самосожжение духовнаго их отца и настоятеля старца Филиппа. И тако в мгновение ока едва не вся храмина огнем воспалися, бе бо внутрь и на потолке разжеги премножество припасено было. И тако отец Филипп скончася, и иже с ним числом всех мужеска полу и женска до 72, в лето 7251 [1743], октября 14 [Отеческ. завещ., глава 59]. Дозде от християнских историй о житии и кончине старца Филиппа.
Согласно сему и внешнии историки подтверждают [Сборник Попова, том 2, стр. 187, 2-го счета; Макар. Виниц., стр. 275], хотя кратким очерком, как и прочая филипповы неподобныя поступки и соборная на его деяния. Такожде и от монастыря отшествие и самосожжение описуют и на тоже самое время указуют следующими словами: «Тогда (пишут они) 14 декабря, 1737 года составился в Выговской обители собор старцев. Филипп торжественно жаловался на разныя неповиновения ему в киновии и особенно на помешательство какое творит ему Симеон Денисов. Последний держал ответ пред собором и все присутствовавшии Денисова оправдали, а Филиппа обвинили, скрепив свое определение собственноручными подписями. Филипп в страшном гневе оставил монастырь, начал укорять выговцев в неправославии, увлекши за собою до 50 человек построил себе особый скит в нескольких верстах от Выговской обители. Денисов нарочито ездив с некоторыми братиями к Филиппу, чтобы с ним примирится, но встретил упорную злобу и ругательство. В то время наряжена была коммисия Самарина к поморцам. Выговцы вследствии ея решились молится за Государя. Филипп за таковую отступку возстал на них еще с большим ожесточением, как на вероотступников. Коммисия объезжая поморския скиты случайно напала и на филиппов скит. Но филипповцы, совершенно запершись, не впустили ее к себе, изрыгали на них разныя хулы, и когда коммисия приказала выломать калитку вдруг увидели что вся изба в пламени, а наверху ея народ обрекшия себя на смерть. Филиппаны все приготовили чтобы погибнуть в пламени, и погибли в 1742 году».
Подобно сему и другий внешний свидетель о всех вышеписанных произшествиях старца Филиппа подтверждает следующими словами [Андрей Охтинский, стр. 143]: «Он захотел быть правителем монастыря Данилова, и войти на степень наставника, но видно за недостатком ума ему, бедному, в том отказали, что слыша Филипп захотел лучше разделитися с монастырем нежели намерение свое оставить; взбесился, зашумел, возгорелся в его сердце огнь ревности, и, под предлогом лучшаго хранения древней веры, начал уличать в некоторых пунктах поморян, яко неправославных, почему и объявил себя тут же монастырю противником. Подговорил с собою человек до 50 других единомысленников, и оставя монастырь отшел с ними далее верст за 50, и построил скит в котором и водворился. Но как объявил я о коммисии бывшей в поморском ските, которая по долгу своему осматривала далее, то между прочим нашла и филиппов новопостроенный скит. Ибо двор обнесен был плотным забором, посреде коего стояла превеликая хоромина. Заключившиеся тамо жители, увидя приезжих, вместо благосклоннаго приема осыпали их ругательствами и поношениями, они называли их еретиками и гонителями и прочая. Коммисионеры, удивясь пустынников безчинству, сколько ни просили отворить ворота, но кроме брани ничего не получили, и когда начали ломать вороты для входу вдруг увидели строение объятое пламенем, тут они бросились было к колодцу за водой, но нашли оной заметан дровами, отбили дверь, но обрели еще другую стену, коея двери извнутри были забраны бревнами, почему бедныя филиппаны без всякой помощи, пред очами комисии, в 1742 году обратились в пепел». Дозде от внешних.
Сия 4-я статья много заключает в себе важнаго: о житии, нравственности, деяниях и кончине старца Филиппа, хотя последователи его некоторыя неблагопохвальныя деяния его отклоняют и прикрывают, как неточностию время отшествия его от монастыря, такожде и вины их же ради с поморскими отцы раздел учини, и прочая, но обаче история со многими свидетели истинствует, о чем ниже поясним и потщимся и с доказательством священнаго писания изъявим благопохвальныя и непохвальныя того деяния, не яко уничижающе и укоряюще житие старца Филиппа, но да покажем не ведующим истину, и да уразумеют велехвальныя филипповцы яко человек между добрыми делы подлежит некоторым человеческим немощем и порокам, даже нравственным и религиозным, как показано в сей 4-й статии с немалыми свидетельствы
1-е, что старец Филипп принял благословение от поморских отец на управление духовных дел разгордясь духом честолюбия, якоже выше поведася, со гневом отречеся духовнаго правления при соборе отеческом и братском; каковому же подлежат запрещению впадшия в подобныя отрицательныя прегрешения презвитери и причетницы [Кормчая лист, 18, Апостольское прав. 62, лист 261, прав. 9, лист 42. Аникирскаго собора прав. 1,2]. Слыши святых апостол запрещающим таковым, аще отвержется рекше своего имене, сиречь речет что ни епископ и прочая, таковый да извержется от сана своего. И аще покается, яко мирский человек да будет. И на таковыя отрицания положены правильныя запрещения святыми апостолы и святыми отцы, иже беша при истязаниях мучительских. А еже при каких-либо гордостных и своевольных раздражениях оставляющии духовную должность всяко измещутся оныя. Таковаго правильнаго положения и новии учители держатся, ибо они Никона патриарха, оставишаго своевольно патриарший престол и хотяще паки восприяти, не пустиша, но извергоша его от сана [Собрание образцовых сочинений, часть 4, стр. 47, Царство Алексея Михайловича, часть 1, стр. 215]. Но старец Филипп ни старых, ни новых прещений не убоялся, но по отрицании от духовных дел, паки за оныя принялся, а потому и подлежит сомнению таковый его поступок. Но, к сожалению, велехвальныя его последователи ни мало о том его пороке не внимают, но лишь всевозможными укоризнами нашего первобытнаго учителя Феодосия Васильевича облагают, который по милости Божией таковой вине не подлежит, сиречь, духовнаго правления по коей либо грубости не оставлял.
2-е, а еже враждебное сопротивление старца Филиппа настоятелю Симеону и своему духовнику, иноку Давыду, и прочим монастырским отцам, и братии, о таковых глаголет великий Василий: «Аще кий инок в коем любо словеси, ко спасению его изглаголанному, сопротивится игумену своему или старцу, или духовному си отцу, яко соперник Божий обретается» [Потребник Большой, лист 692, в Номоканоне прав. 113]. И паки: «иже разоряет устав духовнаго отца своего, самою подстрекаем злобою, при животе и смерти повинен будет [Там же, прав. 114]. Подобно сему и Зонар сказует: «Инок оклеветаяй и поношаяй игумена не далече есть от гнева Божия» [Правило 186], которой к сожалению благомыслящих и не замедлил последовать на любоначальном и самомнительном иноке Филиппе, как от монастыря отшествием, такожде и от единства веры отделением. Таковы суть плоды непокорности и ослушания к духовным наставником старца Филиппа превозношаемаго до святости его последователями, кои до безумия уничижают нашего первобытнаго отца и учителя Феодосия Васильевича, но в его истории подобных поступков, противу своих духовных отец, не обретается, яко же выше, во главе 1-й, отчасти пояснихом.
3-е, а еже время и вина отшествия его от обители ясно свидетельствуется многими историки: что оное последовало от раздору старца Филиппа, раньше, за 3 года до приезду самаринской коммисии в монастырь, т. е. в 1745-м году, а самарина коммисия была в 48-м году. Так поведают наши християнския истории, как то: Поморская рукопись о житии старца Филиппа и книга Отеческих завещаний, глава 59. Согласно сим и внешния писатели сказуют хотя и новым счетом, но обаче тем же означаются летом, т. е. изшествие из монастыря в 1737-м, а коммисия была в 40-м году [Макария Виницкаго, стр. 275, Дела Преображенскаго Приказа 18 в., том 1, Стол. Кожанчиков, стр. 407]. Да еще подтверждается и тем его раздорное отшествие от монастыря прежде коммисии. 1-е, яко Симеон Дионисович как посланиями, такожде и личным собеседованием много о возвращении старца Филиппа паки в монастырь увещевал. 2-е, яко и скитскии обыватели согласныя с ним прошаху его о соборном разглагольствии, дабы объяснены им были причины отделения от монастыря. 3-е, и есть ли бы вины раздела его с монастырцами были благословны, как поведают его последователи, приятия ради тропаря, то то старец Филипп ни отклонился бы от соборнаго о том суждения, и разил бы поморян пороком отступления, и не преминовало бы оное соборное деяние яко же и на его, Филиппа, прежде бывшие исторических писателей. 4-е, тоже ни допускает онаго вероятия чтобы старец Филипп удалился из монастыря во время ревизовки Самарина, понеже оная коммисия действовала весма строгим образом, так что и сам настоятель, Симеон Дионисович, скрывался от оныя в затворе во одной из келий монастыря, а жители онаго слышавше и видевше истязании, и аресты, и пытки своея братии, и окрестных християн, и имели намерение скончать жизнь свою самосожжением, и едва остановлены были своими настоятели. И в таковых будучи злобных обстоятельствах настоятель монастыря и вся братия, то какоже возможно было иметь попечение о посторонних лицах, как о увещании отклонившагося от них старца Филиппа, такожде и о прочих, когда уже над монастырем тяготела рука властительская, с мечем и огнем. Но филипповцы в подражание своего учителя, Бога не бояся и человек не срамляяся, облыгают как Симеона, такожде и монастырскую братию, что будьто бы они старца Филиппа сами принуждали к приятию тропаря, за что всячески теснили его и во узы ковали, и запертым держали, и всячески били и мучили, и прочая облыжная небылицы. Но обаче собственныя их глаголы, писанныя в небольших тетрадех, коих они более сведущим людем ни кажут, но маловедущих оною историею смущают и на гнев на Симеона Дионисовича поощряют. И старухи их согласия со слезами о мучении своего учителя оную тетрадь выслушивают. 5-е, согласно сим доказательством, что старец Филипп вышел из монастыря раньше коммисии, можно видеть и из внешних историй, как то из доноса Круглаго, бывшаго в 1738 году, в коем он доказывал начальству с величайшею злобою и клеветою на всех старейшин и должностных лиц Данилова монастыря, но о старце Филиппе нет ни полуслова [Дела Преображенскаго Приказа 18 в., Стол. Кожанчикова, том 1, стр. 374]. А потому и разумно яко в 38-м году его в монастыре уже не было. И еще тем более подтверждается, что доносы Круглаго на монастырь начались с 1736 года [Там же, стр. 355], и старейшины онаго предпринимали всевозможные меры ко отклонению того грядущаго на них властительскаго гнева, и подавали неоднократно в Петербург прошении, кои и подписывали вси монастырския старейшины и должностныя лица, но старца Филиппа подписи нет ни к единому прошению от вышеуказанного 36-го года. А прежде онаго года видимо есть между прочими старейшины и старца Филиппа подпись к некоторым делам. 6-е, что еще более подтверждает история, изшествие из монастыря старца Филиппа раньше коммисии, по раздору его, следующими словами: что Симеон Дионисович разглагольствием склонял старца Филиппа и его последователей к мирному соединению. И как являет история, последнии болие были согласны, и сами просили о том соборнаго суждения. Но старец Филипп различными отлагательствы довел до время наезда коммисии, и от страха оныя в последний год уже не выходил никуда из скита. И 7-е, сие свидетельство деяниями старца Филиппа уверяет, что его отъединение от Данилова монастыря было прежде наезда Самаринской коммисии, коя была в 40-м году, а в 42-м уже постигла кончина старца Филиппа и его скита, и жителей онаго до 72-х. Если верить упорной филипповской настойчивости, что старец Филипп во время следствия коммисии по многих истязаниях и муках от монастырских старейшин, за несогласие принять тропаря, исповеднически бежал от монастыря, яко же иногда от стрелецкаго полка. Сего не допустит целый мир свидетелей, что поморския отцы были старцу Филиппу мучители, да и сами его последователи добре ведящии ведят, что они ему были православию и смирению иноческому учители. А еже его от своих отец отъединение, сие бысть от собственнаго его нипокорения. Такожде весма невероятно и оное, яко бы старец Филипп отъиде от монастыря в 40-м году, а в 42-м со всем скитом сгорел, то какоже он возможе в столь краткое и гонительное время монастырь устроити и братию собрати. И аще сие допустить, то будет все оное устройство более на мечтательный призрак походить. И еще не мало бы можно во свидетельство точных доказательств привести, что старца Филиппа отъединение от монастырцев было прежде приятия ими тропаря, по собственной его с ними гордостной распри, но любяще краткость истории, прочия доказательствы оставляем, о сем же точию мало нечто воспомянем: почему последователи старца Филиппа всевозможныя усилия полагают, и как время его разделения с монастырцами, так и вину онаго отклоняют. Понеже нецыи от оних добре знают, аще кто не благословной ради вины монастырь и братию оставляет того священное писание ужасно порицает [Номоканон, прав. 115], яко же сказует великий Василий: «аще хощеши оставити обитель, яко огорчи тя отец твой игумен, или брат твой, и сего ради хощеши изыти, горе тебе, кому тя уподоблю, токмо Июде предателю, отлучившемуся Христа и ученик Его». И сих дозде.
Мы же сие сказание святых приведохом не яко на старца Филиппа вину возлагающе, но точию историю и житие его поясняюще, что бысть между им с поморскими отцами, и како скончася, о чем выше довольне пояснихом от християнских и внешних историй. Кои единогласно свидетельствуют, что старец Филипп отлучися от монастыря в духе гордости и непокорства, прежде приятия оными тропаря, и потом произвольно згорел.
Зде же за нужное признали поместить несколько более важных слов, о их несправедливой филипповской истории, в коей более уклончиво и неправдоподобно до нелепости повествуется, о причине изшествия старца Филиппа из монастыря, и его кончине. Таковыя их повествовании мы заимствовали выпиской из их филипповской Книги полудестевой, принадлежащей некоему Филиппу Фролову, живущему в Москве, на филипповском братском дворе, который исправлял должность кадильщика, а напоследок постригся во иноки. И мы из оныя их (тетради) истории возъимели намерение, для краткости своея, избрать хотя некоторыя более неправдоподобныя слова и зделать на них замечание. Отсель и начинаем писать от истории филипповской, коя начинается следующими словами:
«История о страдавших отец Филиппе и Терентие»
«Когда прислан Тропарь в монастырь говорить, тогда отец наш благолепный муж Филипп не благословя такова тропаря говорить».
Первое примечание
Тропарь в монастырь никогда и никем присылаем не был. Но собственно начальник коммисии, Самарин, во время производства ревизовки двоеокладных, по доносу Круглаго, в 1740-м году [Андрея Охтинскаго, стр. 144, Поморская история, печат., стр. 391], как в самом Даниловом монастыре, такожде и во окрестных поморских скитах, по приказанию высшей власти, вынудил монастырцев чести́ в тропарех и кондаках, как где писано, то есть православной и правоверной, и прочая, вопреки их первобытному обычаю, как они по примеру соловецких страдальцев перводили на общее лице, сиречь, «победы православным и правоверным», и прочая. Такова суть причина приятия монастырцами тропаря, но некоторыя поморцы в прочих скитах и погостах были к тому не согласны, яко же сказует о сем внешний историк [Очерк раскола Андреева, стр. 171]: «Часть поморян, которым терять было нечего не подчинились требованию представителя власти, Самарина, а в монастыре из под страху начили чести́, по требованию власти», яко же выше речеся, а не так яко же сказует история филипповых: что когда-то и кто-то прислал тропарь в монастырь говорить. И яко бы старец Филипп сопротивился оному. Сие весма несправедливо по многим свидетельствам, их же выше приведохом. Понеже старец Филипп вышел из монастыря в 1737-м году, а самарина коммисия была в 40-м году и прочая.
От истории филипповой
«Тогда старица большуха, имя ей Марина, первая стала зачинать говорить тропарь, от Богослова осенняго. Тогда старец Филипп не дал ей воли говорить, и не говорили даже до Воздвижения, т. е. без малаго год. Тогда запели прямо: «Благочестиваго царя». Тогда старец благолепный и святый муж Филипп бросил кадило об пол и сам побежал из часовни вон, и едва его на улице настигли, и затощили в келию, и заперли».
Второе примечание
В сих словах истории много имеется несправедливаго и невежественнаго. Несправедливо то, что якобы начат был чести тропарь по новому старицею, и по возбранению старца Филиппа не читали целый год, до Воздвижения. Сему не дают вероятия вси вышеприведенныя истории, а более поморская, потому что вынуждены были монастырцы принять тропарь Самариным в 40-м году, а старец Филипп выбыл из монастыря в 37-м году. А еже не читали целый год тропаря по новому, тоже несправедливо, понеже Самарин строго требовал неотложнаго выполнения: чему и был личный свидетель. И в том же 1740-м году отнесся в Петербург о окончании своего по монастырю следствия [Из Преображенскаго Приказа, стр. 407]. А еже на праздник Воздвижения запели в тропаре «Благочестиваго», сим означается крайнее неведение. Понеже в Воздвиженском тропаре несть таковыя речи «Благочестиваго», но «Благовернаго». А что старец благолепный и святый Филипп бросил кадило об пол и побежал из часовни вон, так неужели он за то и свят, что бросил кадило об пол и убежал из часовни? За подобныя поступки не видится в писании чтобы признаны были за святых.
От истории
«И после того Семен Денисов с другими прочими совет сотворили, и пришед к старцу Филиппу Семен стал святолепнаго старца по щекам бить, и прочии били его крепко».
Третие примечание
Довольное количество доводилось нам видать и слыхать того время историй християнских и внешних, но таковых поступков настоятеля Симеона Дионисовича противу старца Филиппа не видехом, ниже слышахом, да едва ли и прочии кто подтвердят оную нелепую повесть.
От истории
«И по биении том отец Филипп сидел в железах 3 дни, и приехавший новгородский купец в монастырь той скоро на Семена Дионисова закричал: «за что святаго старца сковал». И сам пошел и железы разбил, и старца Филиппа вывел из монастыря вон, в Надеждин скит, и жил отец Филипп в риге год, где хлеб молотили».
Четвертое примечание
Еже били и ковали монастырскии старейшины старца Филиппа, о сем ни один историк ни писал. Такожде едва ли кто и от предании слыхал, а потому и походит сие повествование на злобное порицание. А яже новгородский купец, кторый яко бы Симеона Дионисовича за старца Филиппа порицал, а его будьто бы за что-то святым называл, сие тоже далеко на правду не похоже, потому что посторонний человек в монастыре не может распорядится, да к тому же аще он старца Филиппа святым именовал, то почему же он с его ног железы сбивал, а не каким либо порядком расковал. А еже из монастыря его изведе и в Надеждин скит посели, где он будьто бы в риге молотильной целый год поживе, сие тоже несправедливо, понеже вси историки единаково гласят, что старец Филипп по случаю раздора с монастырскими отцами сам из монастыря вышел в Надеждин скит, в 37-м году, а в 40-м, во время коммисии, когда уже не было возможности в монастырь кому определятся или исключатся. А потому все оное натягательное повествование само собой может неправильным познаваться.
От истории
«И жил отец Филипп в Надеждином скиту год, и стали к нему братия збиратися, и поставиша келию подалее, и по времени усмотрев место за лесами и постави 5-ть келий, и потом настроиша келий много и часовню».
Пятое примечание
На сия словеса потребно есть рещи по псалмопевцу: яко солга неправда себе [Пс. 26, стих 12]. Естьли верить сим, что старец Филипп, во время коммисии, в 40-м году, выста́евал о неприятии тропаря целый год, а другой, т. е. 41-й, жил в Надеждином скиту в риге, а потом поставиша келию и по времени поставиша 5 келий, и потом построиша келий много и часовню, в коих и згорел сам и ученицы его в 42-м году. А как история сия поведует, что старец Филипп един год, т. е. 40-й, жил в монастыре, не давал тропаря чести, а 41-й в Надеждином скиту, в риге, а в 42-м згорел; то когда же он успел много келий построить, и более 70-ти человек братии собрати; для благоразумных и знающих историю дело весма странное и вероятию недостойное.
От истории
«Тогда начаша от монастыря к старцу Филиппу приходити его увещевати и к себе позывати. Он же не восхоте к ним пойти. Тогда видя таковую ревность и крепость во отце Филиппе монастыря того жители стали совет советовать, как жыды на Христа. Исходили во Олонец и взяли команду, и взяли в Шунге понятых, а многия в то время не хотели на таковое злодейство пойти, то били тех едва не до смерти. И тогда собралися в монастырь человек 70-ть и пошли. Тогда Мануил Петров стал своим единомышленникам говорить, что старец Филипп станет давать хотя сто рублей или триста, отнюдь не берите, но токмо сожгите. То они окаяннии умышляли дабы кто отцу Филиппу не возвестил. И пришли в Надеждин скит ночью, взяли огня и смолья, и приказали нарубить колья, и повелеша: кто попадется на дороге и побежит, того бей до смерти. И возвестиша старцу Филиппу: что пришли к тебе совсем окончить. И от того часа нача отец Филипп братию сбирати в часовню и уготовляти себе и братию к смертному часу, и приказал двери все запирать. И глаголаше им: сам Господь рече, аще кто погубит душу свою Мене ради, той спасет ю. Тогда пришедшии напали, яко разбойники колотилися у окна, а другия не дожидаясь ответ начаша рубить часовню в 6-ть топоров.. И потом стали класть конечное начало. Тогда отец Филипп поклонися братии до земли, рече им: яко гром грянул, простите мя отцы и братия в сем веце и в будущем. В то время пустили огня, и когда загорелись, тогда ни единой ни вскричал, ни заревел. А где отец Филипп стоял то окно скоро прогорело и увидеша отца Филиппа стоящаго в пламени, чему и сам офицер удивился. По згорении же всего, и отца Филиппа, нападе на них страх, яко и земли́ колебатися». Дозде от филипповской истории.
Сии окончательныя слова их истории, более первых пренаполнены несправедливостию, и даже самою злобною клеветою на монастырских старейшин и на их братию, и ко удивлению нашему, что таковая несправедливая история на поморских отец имеется у филипповых почтенных людей в знаменитом их Московском общежительстве, яко же выше поведася. Мы же евангельски рцем к ним: «ни постави им Господи греха сего, понеже и сами не ведят что говорят». Яко же предреченныя словеса истории сия явиша, такожде и окончательныя изобилуют неправдою, о чем хотя несколько поясним.
Яко же се, что монастырския отцы прихождаху к старцу Филиппу и позываху его к себе на примирение, он же не восхоте. Кто же о сем деле более прав пред Богом и человеки? О сем и малый отроча без размышления поведует: яко хотящии мира евангельскаго блаженства сподобляются, а уклоняющиися в развращение враждотворцами порицаются. А яже монастырских жидами порицают, а старца Филиппа Христу уподобляют. Сие дерзостное порицание на братию произносимо было в суетном гневе, забывше евангельское прещение, не точию жидами или еретиками порицати християн, но еже со гневом рещи: «рака и уроде, повинна творит геене огненней» [Благовестн. от Матф. Зач. 12, лист 51]. И аще монастырцы подобны жидам, то почему же старца Филиппа уподобляли Христу; ибо он порожден водою и духом от монастырцев. А что монастырцы зделали донос на старца Филиппа олонецкому начальству: в сих словах нисколько правды ни имеется, понеже ведомо всем, что в то время производил следствие в монастыре и прочих скитах начальник Самарин, присланный из Петербурга, а не из Олонца. А еже монастырцы и с понятыми до 70-ти человек, вооруженныя кольями, со олонецким начальством, со огнем и смолою шли ночью поджигать старца Филиппа, и кто попадался на дороге убивали; примернаго случая едва ли кто во историях видал, чтобы правительство имеющее закон и власть могло так действовать, т.е. бить невинных дубием на дороге, и не сужденных придавать огню, как все это будьто бы произвели над филипповым скитом по доносу единоверных християн. Сия есть самая гнуснейшая ложь. И когда возвестили старцу Филиппу, что пришли его окончить, и он начил братию сбирати в часовню, и в ней заперлись, и начали уготавливатися к смерти; сие аще было бы и справедливо и то старец Филипп ни есть подражатель Христу, который бежал от убиения Ирода, нам оставль образ не пометати себе в напасти, но давати место гневу [Толков. Евангелие в нед. по Рожестве Господнем]. А еже учил старец Филипп братию словами Спасителя, который яко бы повелевает погубить душу свою спасения ради; в сем он бедный и жалкий, как видится по своему недоразумению, вельми обманулся и погрешил. Понеже по сказанию Златоустаго: «тии душу свою не спасают, кои произвольно жизни себя лишают» [Там же в нед. 3-ю Поста]. И яко бы извне начальник с монастырцами зажгли часовню; сие само собою оправдается, яко зде злобная ложь водворяется. Аще бы извне часовню зажгли, то зачем же они отколачивали окны и рубили часовню? Таковое действие ни есть зажигающих, но от огня спасающих. Яко же поведуют вышеприведенныя истории: что не олонецкое начальство с монастырцами, но отряд самариной коммисии, желая произвести следствие в филипповом ските, так же как и в монастыре, но когда нашли скит запертым, силою решили взойти во оный. И абие внезапу часовня внутри загорелась, потому то начальник и приказал отбивать окны и двери, и се яве свидетельствуется яко старец Филипп виною был сам своего сожжения и прочих с ним, более 70-ти человек. А почему же филипповы последователи оное самосожжение отклоняют, и на оных вину ту возлагают? Ибо неции от них добре ведают, что святая церковь самоубийство воспрещает, но аще некоторыя от святых мученик хранения ради веры Христовы и девственныя чистоты сами ся различными смертми уморяху, но обаче не прежде поятия их на мучение се творяху. А потому святое писание и не повелевает без разсмотрения на таковая дерзати: понеже желание жизни всеял есть Бог, возбраняя себе убивати, и ниже самовольне на смерть ходити когда, аще и безчисленная имеет лютая [Беседы евангельския на Иоанна, беседа 85, лист 637]. Донатияны же еретицы, яко же повествуется, в сицевое неистовство приидоша, яко себе новое мучительство, им же бы у народа прославися, обретоша, си есть убиение и самосожжение самих себя, а единомысленнии их вместо мученников освящаху. Того ради бысть великий собор, на нем же исправиша и уставиша: дабы никтоже себя самого за веру убивал, и таков дабы за мученика вменен не был [Бароний, лето Господне 331, числ. 3; и 148, числ. 5; и 414, числ. 1]. «Ибо сие творяху бешении о́ни донатисты во огнь и в воду вметающеся», и паки сказует святый Иоанн [Тактикон старописм. Иоанна Постника]: «аще каков любо человек уморит себе чем либо, да не погребается! Ни да поется, но да повергнут его яко единаго от поганых, аще будет се и Бога ради сотворил, да не пощадится».
И тако окончавше сию 5-ю главу о житии и кончине старца Филиппа с многими историческими свидетельствы, и да не возмнится некоторым яко вину возводя на филипповых християн сия написахом, но собственно для того что их в сомнение приводит: отлучение отца Феодосия Васильевича от поморских християн [Ответ 4 М. И. Стукачева к филиппанам]. Такожде и мы с своей стороны не менее можем иметь сомнение о отлучении первоначальнаго их предводителя, старца Филиппа, от поморских християн, о чем довольно во главе сей от достойных вероятия повествователей пояснихом, что он не благословных ради вин из монастыря вышел, еще до тропаря, яко человек по пристрастию. Такожде и кончина его некоторым сомнительна, а потому мы точию поясняюще события, определение же оных оставляем в судьбы Божия.
По окончании же сия главы, для замечания благомыслящим, воспомянем и сие, яко уничижаемый от филипповых наш первобытный учитель Феодосий Васильевич за раздел с поморцами, по милости Божией, как сам лично, такожде и его последователи, делали с ними примирительныя соединения, о чем выше, во главе 2-й довольно пояснихом. Старец же Филипп за свое разделение с теми же поморскими отцами ни зделал ни каковаго примирения, такожде и от современных его последователей ни видится в истории примирительнаго соединения, но паче разногласное разъединение, о чем в ниже следующей главе хотя вкратце поясним.
Глава 6
Изследование о миротворных соединениях последователей старца Филиппа
Християны, именуемыя филипповы, поношают нашего первобытнаго отца и учителя Феодосия Васильевича за разъединение с поморскими християны, такожде и нас, его последователей, вельми уничижают, яко неправомудрствующих и не благоразумно себе оправдающих. Мы же согласуясь сущей истине не скрываем бывшаго разногласия и разделения первобытнаго нашего учителя с поморяны. Такожде с духовною радостию проповедуем бывшая его и по нем миротворное соединение со старопоморскими християны, о чем выше, во главе 2, довольне пояснихом.
Зде же изследуем, по возможности, было ли подобное с ними примирение, как самого старца Филиппа, такожде и ученик его. Но сего едва ли обрящется в истории, но более повсюду являются сопротивление и разъединение, даже и до сего время. Яко же и мы выше, в 5-й главе, приведохом от християнской и внешней истории и даже от их филипповской истории, и в нижеследующей хотя вкратце поясним, что поморския отцы много имели о сем тщания, дабы приклонить старца Филиппа к мирному соединению [Поморск. рукопис. О старце Филиппе, Макария Виницкаго, стр. 275]. И он, яко поведует между прочими и их филипповская история, аще и многажды обещася к ним пойти и примиритися, но обаче сего не сотвори, и в таковом враждебном разъединении со старопоморцами самосожжением и жизнь свою скончал. Таково было старца Филиппа к поморским отцам сопротивление, как являет история, без всякаго к ним примирения, такожде и кончина его не без сумнения, таким образом исторгнувся от мира сего, корень филипповскаго общества. А по внешним историкам [Сборник Попова, том 2, стр. 187, 3-го счета]: «отщепенец поморской церкви и основатель своей, под названием своего имене, филипповской. Прежде муж был благочестивый, но напоследок, поработясь кичением и тщетною ревностию, оставил Выгорецыю и удалился в ярости своей на место Умбы, и тамо кончил жизнь свою, якобы за любовь благочестия, огнесожжением, 1742 г., октября, 14 дня от рождения своего, на 68 году. Впрочем он при всех своих отличиях был человек грубый, непокорнаго духа, честолюбивый, злопамятлив и порабощен суеверием». Дозде от истории Попова.
О жизни и кончине старца Филиппа, восхваляемаго до святости его последователями, при сем же признали за нужное от тоя же истории привести несколько слов и о уничижаемом ими до нелепости о нашем первобытном отце и учителе, Феодосии Васильевиче, коего недоразумная ревность аще и учинила с поморскою церковию раздор, но миролюбие его убедило паки оный попрать, и желая устроити единство своей с поморской церкви и быть ему не раз в Выгореции на заглажение того. И виде Господь таковое его благое намерение подаде вину и случай еже видитися и примиритися в Новеграде с премудрейшим отцем Андреем Дионисовичем. И аще бы вскоре не постигла его мученическая кончина от руки Иова, митрополита Новгородскаго, то последовало бы и всеобщее примирение [Там же, стр. 190]. Но впрочем чего он собою не докончил, напоследок ученицы его совершиша, сиречь всеобщее примирение со старопоморскими отцами учиниша, яко же во второй главе явлено. Старец же Филипп ни сам, ниже ученицы его не сотвориша мирнаго соединения, но паче разделение. О чем нижеследующая история явит [Макария Виницкаго, стр. 276, Поморская рукопись о старце Филиппе].
Что после кончины отца, инока Филиппа, осталось два старца: Терентий и Матфей и с прочими. И собраша из своего согласия собор, на оном начаша определяти: как монастырскаго согласия християн приимати в их филипповское согласие. И не бяше в них единомысленнаго разсуждения, отчего вышеименованнии старцы между собою разгласишася. «Терентий начат определяти, чтобы от монастырскаго согласия приходящих с шестинедельным постом непременно приимати». Вопреки своего учителя Филиппа. «Ибо он 1-й на монастырских ни налагаше шестинедельнаго поста, а присоединяющихся в его согласие с началом приимаше. И Матфей ему последоваше, а Терентию весма сопротивляшеся, глаголаше бо: отнюдь сие не наследует, а должно с единым началом приимати, яко же отец Филипп приимаше. И яко же сии пастыри между собою разгласишася, сице и овцы их разделишася, и овии последоваху тому, друзии же другому».
Се по старце Филиппе второе бысть разделение, а не мирное соединение. По времени же оба сии разногласныя старцы, Терентий и Матфей, по примеру своего учителя Филиппа, самосожжением скончашася, кождо со своим стадом. По кончине же сих старцев осташася их же согласия 4 человека с прочими. Сии между собою из двух вышеименованных согласий на четыре части раздел учиниша. Каждый из них, под именем отца Филиппа, учение в народе сеяти начаша, раздор церковный умножающе. Первый из них, Семен Шагатской, нача покрещевати от монастырскаго согласия; вторый, Иван, сей с шестинедельным постом, яко же вышеименованный старец Терентий, приимаше; третий, яко же старец Филипп, с началом соглашаше; четвертый учение свое простираше, во еже бы самому себе до смерти запостити. О сем согласии {четвертом} пространнее изъясняет близкий ко оному времени внешний историк А. И. Журавлев, называя их морельщиками, да и вообще о филипповых сказует: что они к самоубийству столь были склонны, что всегда наведовахуся, где, когда и сколько сожглось или запостилось самовольно [Андрей Охтинский, стр. 145], и советовали без гонительной нужды огнем сожещися: таковых почитали за страдальцев Христа ради, несмотря на запрещение церковное на таковых, яко же иногда на еретиков донатиан. Сего согласия, морельщиков, бе старец Иона, иже живяше в Надеждином скиту, напоследок преселися на Топозе́ро и тамо скончася.
Се третие было в филипповых ученицех разделение и враждотворство, а не яко же в федосеевых миротворство, о чем выше, во 2-й главе, довольне пояснихом: о коем немиролюбныя филиппаны и по днесь неприязненно относятся, о чем ниже пояснено будет. Зде же паки повествуется: яко от последующих оным филипповским учителем и еще множайше церковныя раздоры между собою прозябоша. И вси такожде под единым именем отца Филиппа прикрывахуся. И еще тоже внешнии историки поведуют о некоторых филипповых распрях и разъединениях, яко же повествуется о старце Евфимии, который от филипповскаго согласия приял крещение и пострижение; напоследок возгордевся и отказался от их, крестил сам себе, и завел свое согласие, называемое странническое, от коего и еще злый отрод самокрестов произыде [Макария Винницкаго, стр. 279]. В таковом немиролюбном разъединении долго скитались филипповцы по различным местам России, без прочнаго пристанища устройство их шло медленно, и только мало помалу стало приходить в порядок, когда совсем стихли преследования старообрядцев [Очерки и расказы Ливанова, том 3, стр. 96]. Зде же надлежит заметить и о том, что по вышеозначенным причинам, а именно, по самопроизвольному лишению жизни, и по многим междуусобным расколам, точных блюстителей предания и порядка старца Филиппа из его учеников оставалось весма мало, и те повременно, незаметным образом, соединились со старопоморцы, кои обретались вне монастыря, и не приняли тропаря, а потому и получили наименование от некоторых филипповы-старопоморцы. Еще же со особенным вниманием надлежит воспямянуть и о том, яко в 7235-м [1727] году было примирение московских стран феодосеевых християн, в поморском монастыре, при бытности Даниила Викуловича и Андрея Дионисовича, и прочих [Отеческое завещ., глава 14 и 15]. И тако до приятия монастырцами тропаря феодосеевы християны с поморскими были согласны, а после того с ниприимшими тропарь, т.е. со старопоморцами, до лета 7271 [1763]. Но как мы выше пояснили, что со оными старопоморцы соединилась часть филипповцев, от коих и начали появляться, в духе враждебном на церковное единство, некоторыя несовместныя и высокомерныя предложения. А потому в означенный 7271–й [1763] год оный мир, продолжавшийся 36 лет, был нарушен новофилипповцами, из коих первыми нарушителями познаются братья: Григорий и Алексей Яковлевичи, и с прочими [Ответы М. И. Стукачева к филиппанам]. А почему мы их именовали новофилипповцы, понеже в то время, до 7270 [1762] года, было в Москве, как гласит предание, едино согласие християн [Там же, 8, лист 4]. От коего произошли и оныя два брата: Григорий и Алексей Яковлевы. И они первыя нарушили мирное соединение с поморцами, бывшее в 7235-м [1727] году, и отъединились от християн под названием филипповцев, и завели свое согласие в Москве на Балчуге, почему и назывались балчужными, а от некоторых и филипповы. И первый у них был собор разъединения 7278 [1770] года, на коем и написали 6 статей обвинительныя на християн в самом враждебном духе. Сему согласно и внешних история поведает, когда де в Москве, в Дурном переулке, устроена была первая филипповская моленна тверским купцом, Т. И. Долининым, 1790-го года [Очерки и разсказы Ливанова, том 3, стр. 96]. «И он озаботился избранием наставников. Такого человека Долинин нашел из кимрских иноков Варлаама. Но он немного пожил в Москве и отправился в свою Кимру. После того вскоре настоятелем филипповцы избрали некоего Алексея Яковлева. Он был писатель, и составил себе репутацию непобедимаго полемиста, сиречь, религиознаго спорника. О нем говорили: когда писал Алексей Яковлев, то сам лукавый водил его мыслями. Он старался охранить свою общину от влияния федосеевцев и поморцев, т. е. дабы всячески разъединятся с ними». Дозде Ливанов. [Согласно сему и в филипповских статиях (Стостатейник, статия 1), заповедано: Чтобы охранятся от федосеевых и поморских, и прочих соблазнов]
Сии вышесказанныя слова может быть и не по нраву будут филипповцам, но однако и християнския писатели согласно поведают, что в означенный 7271-й [1763] год мир был нарушен, яко же предречеся филипповскими предводители, из коих первыми познаются братия Григорий и Алексей Яковлевы [Ответы к филиппанам М. И. Стукачева, на статию 3]. И они мудрствовали и хульствовали християнское крещение, монастырских и федосеевых, признавали оное еретическим, ни за крещение, но за осквернение [Отеческия завещания, гл. 57]. И прочая многая их хуления, о них же несть ныне глаголати подробну, рцем же точию сие: яко оныя братья Яковлевы, когда учинилися християны, и немного времене минуло, со своим единомысленником и учителем Михайлом Григорьевичем разделились. Он признал их не в меру высокомудрствующих, и отделился от их в бывший в Москве мор [Там же, глава 58]. Свидетельствуют же неции от их же филипповскаго согласия и о сем, яко Григорью Яковлеву случися смерть непригожая, обезумился, и в безумии кал свой ко устом своим подносил, и сие наказание зело страшно. Брат же его Алексей Яковлев, видя таковую казнь Божию на своем брате Григорие, как видно из истории, несколько вмале устрашися, и нача снисходительней быти к федосеевым християном, и справлялся в Помории: как прежние отцы обходились с федосеевыми, и под какой суд положили их. И они ему никаковаго суда на Феодосия не объявили. И он в Москве не́где видевше своего согласия старух, без ума хулящих и укоряющих Феодосия, воспрещал им. И приходил неоднократно в Москве на Преображенское кладбище, через что и был знаком с главным строителем онаго, И. А. Ковылиным. И со смирением беседовал, и написал ясное и трогательное послание к кладбищенским начальникам о церковном с ими мире, коего и они желали [Сборник Попова, том 2, стр. 74, 3-го счета]. Когда же (в Москве) некоторыя от их филипповскаго согласия вознамерились учинить мирное соединение с Кладбищем, а его передовым не поставили, тогда он поднял прежнее свое хульное поношение на феодосеевых християн. Тогда Господь Бог прекратил свое долготерпение, и послал ему жезл наказания, он учинился безумным. И тако сии обои братья Яковлевы на сем свете получили себе наказание с большим студо́м и поношением. Дозде от писма стародубскаго настоятеля П. Θ. ко озерковскому настоятелю С. М. филипповскаго согласия.
Се отчасти явихом уже о четвертом филипповском враждотворстве, кое произведено было упомянутыми их предводители между московскими християны. Да и впоследствии таковыи же от их общества происходили, подобныя первым, с нашими християны распри и раздоры, такожде и междуусобныя разногласия, и даже самыя расколы, кои и по днесь продолжаются, о чем нижеследующее слово явит. Зде же поведаем о примирениях наших, бывших со старопоморцы, и с некоторыми филипповцы, и о их грубых отклонностях от мирнаго единства. В лето 7299-е [1791], в Петербурге, было примирение со старопоморцами и филипповцами, при котором для подтверждения того примирения изложены 12 статей, и с обоих стран утвержены рукоприкладством [Отеческия завещания, глава 11 и 51]. Тогда любящии церковное единство с радостию душевною и с веселием сердца воспеша ангельскую песнь Подающему мир душам нашим, сице глаголюще: «слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение», и Давыдски хвалящеся глаголаху: «Се что добро или что красно, но еже жити братии вкупе» [Пс. 132]. О сем и Апостол тако повелевает: «Мир имейте, и святыню со всеми, их же кроме́ никто же узрит Господа» [Апостол, зач. 332]. Ненавидяй же мира церковнаго, диавол, иже от самаго Авеля праведенаго во святей церкве нача воздвизати междуусобныя вражды [Книга о вере, глава 2, лист 23], той же и повсегда всевает плевелы посреде пшеницы. Тако бысть и во время онаго Петербургскаго примирения, хотя и многия тысящи от старопоморцев и филипповцев вступиша в душеспасительный церковный мир с московскими феодосеевыми християны, но были и такие, кои возненавидеша и отвергоша оное мирное соединение, и осташася в своих грубых и хулительных на церковь мудрованиях, тако и по днесь обретаются и филипповыми последователи называются, и даже с московскими филипповыми християны ни соединяются, и собственно за то ими гнушаются, что их первобытныя отцы, оныи в Петербурге бывшии, мир с феодосеевыми приняли, но мы де всегда его отвергали. Сии, ненавидящии мира, филиппаны в настоящее время большею частию в Вятской губернии обретаются, и уже во многия зломудрия уклоняются, между прочими крещением нашим и даже московских филипповцев гнушаются. К тому же и еще горьшее содевают: аще кто от их умрет и похоронен будет, и они вземше в чашу с могилы его земли, и поставивше к ней 4 свещи, и над ней поют, аки над телом погребение. Прочая же нелепости их оставляем писать для краткости. Таковое благопохвальное петербургских християн миротворное соединение послужило оным непокорным филиппаном, яко же иногда июдеом, каменем соблазна и претыкания, чрез что уже и было учинено ими 5-е церковное разодрание.
Зде же паки поведуется о московском филипповском обществе, у коего имелось в начале 19 столетия, в Москве, две значительныя моленныя: 1-я в Дурном переулке, а 2-я на Балчуге, во Озерковском. Прихожаны же оныя поревноваша доброму и благопохвальному мирному соединению, своим предшественником петербургским старопоморским и филипповским християном, вожделели всеусердно таковаго же церковнаго союза и единства, яже о вере, с московско-преображенскими християны, именуемыми феодосеевыми. Что милостию Божию и совершися в лето 7312 [1804], месяца декабря, 20 день. И на будущее время для мирнаго утвержения, по обоюдному согласию предстателей духовных, изложили 10 статей, из коих во 2-й утвердиша, чтобы избранных церковию от обоих стран настоятелей и отец духовных равно слушати, и чествовати, и ни в чем не прикословити [Отеческия завещания, глава 32]. Старейшаго же настоятеля всем обществом избирати и ему повиноватися, и без совета онаго меньшим настоятелем ничего не творити, такожде и старейшему без меньших ничтоже деяти [Кирил. книга, лист 454 оборот]. 5-я статия сказует, чтобы на кресте Христовом писати и отливати Царь Славы, кроме сих литер I. Н. Ц. I. А 6-я статия, еже бы прежде бывших страдальцев и учителей, настоятелей поморских, новгородских, московских, нижегородских, польских и сибирских первых, яко законно страдавших, других же, яко благоверию поучающих, благочестно почитати, и с любовию поминати. 10-я же сказует, чтобы в чинех святыя службы и поклонех друг друга не зазирати, и прочая статии о обрядех християнских положили и заповедали твердо соблюдати, и настоятели собственноручно подписи подтвердили. Преображенскаго кладбища настоятели: Сергей Яковлев, Алексей Т., Иван Потапов, и прочия. Балчужныя озеровскаго молитвеннаго дома настоятели подписались: Василий Михайлов, Матфей Иванов, Сергей Тимофеев, и прочих балчужных 5-ть настоятелей своеручно мирный завет сей подтвердили, в коем и жизнь свою во единстве духа с преображенскими християны препроводили. Таганскаго же дурновскаго молитвеннаго дома, как настоятели, такожде и прихожаны, сему доброму и миротворному примеру своих собратий не последовали, но осташася во враждебном духе, яко же и предводители их братья Яковлевы, к преображенским християном.
Се было 6-е отклонение филипповых от мирнаго соединения. В том и продолжалось время до 7329 [1821] года [Отеческия писма, часть 2, глава 169]. В сем же году были переговоры и переписки с кимрскими филипповыми християны о примирении. Тогда между прочими и сие писмо, от московских преображенских християн, им было писано и составлено отцем Сергием Семеновичем. Ему же начало сице: «Пречестнейшия и Богомудрыя, и в благочестии светлоблистающияся, о мире и любви всеусердныя рачитилие, и всякими благинями удовлетворенныя, боголюбезнейшия наша отцы и братия, о Христе Исусе, Алексей Павлович, и трудоподвижныя иноцы, Варлаам и Феодосий, со всем вашим благоговейнейшим братством, единения мира и любви. В гобзовании, благочестия, смиренномудрия, милосердия, всеусердно желаем, всеприятнейшее ваше и любомудрое, миром, и любовию другодружною растворенное писание со всеусерднейшим благоговением и радостию прияхом». И прочии сего писма смысл пренаполнен радостию и братолюбною приветственностию. Из сего писма и видно, что оное было во ответ кимрским филипповым християном на предложенное ими писмо о мирном соединении, но насколько не было сие возответсвование преукрашено от священнаго писания доводы: о любви християнской и о мире церковнем, и о единстве веры, без чего ненадежно бывает спасение; но однако, как заметно на самом деле, оставалось без успеха, ибо не видится во истории примирения с кимрскими, должно быть они были в духе более односторонняго грубоумия.
Сие 7-е было отклонение филипповых от мирнаго единения. По сем, в лето 7353-е [1845], московскаго филипповскаго молитвеннаго дома настоятели и попечители, за своим рукоприкладством, подали в нашу Преображенскую обитель писменное заявление, что они вожделенно желают мира и единения церковнаго. Начало же онаго писма следующее: «Словущим учителям, о благочестии пекущимся, и прежним нашим поморским отцем усердным последователем». И прочия того писма довольно благосклонное прошение к нашим настоятелем и попечителем, дабы они объяснили им своея веры и обрядов християнских содержания. Что и было ими исполнено, тоже в самом миролюбном духе, и написано им возответствование, в тринадесяти статиях, ему же начало сице: «Благочестивейшему о Бозе собранию, правоверным християном царствующаго града Москвы Настоятелю: Григорью Несторовичу, Ерасту Никитичу, Петру Ивановичу, и прочим». И сие писмо ответное подписано нашея обители отцами: во первых настоятелем, Семеном Кузмичем, и прочими отцы и попечители, до двадесяти. Из сих писем заметно, что во оное время много было от обоих стран желания к соединению. Но к прискорбию християнскому, и к радованию вражескому, благое оное намерение миротворства не состоялось. Причина же онаго, как подтверждается некоторыми, даже и с их филипповской стороны бывшими при том мирном совещании, был их старший настоятель, Григорий Нестеров, который сомневался, в случае соединения с столь великим и знаменитым обществом Преображенскаго кладбища, не остаться бы последним из первых. Но как заметно из святаго писания, и даже из самых практических видов, что в недобром и душевредном деле много успевают и ничтожныя люди, но кольми паче егда старейшия (люди) на то посягают. Сие довелось и филипповскому настоятелю, Г. Н., сотворить, сиречь, свое общество от мирнаго союза отклонить, за что и возмездие во очию всех пришлось еще в жизни сей получить. Ибо кончина его началась сильнейшею болезнию, от которой он лишен был ума и слова, и невозможе на конце жизни своея сотворити законнаго исповедания. И тако лишенный слова и разума лежал несколько дней, и по сем скончал живот свой, оставя свою паству во враждебном отношении к преображенским християном.
Сие уже 8-е было отклонение филипповых от мира церковнаго. Зде же надлежит заметить о достопамятном вышеупомянутом муже филипповскаго (согласия) общежительства, Петре Ивановиче. Он в то время в их братском дворе занимал должность внешняго распоряжения по начальству и по экономии дома. При том же он был твердый блюститель християнских правил, художеством же иконописец, усердный (ревнитель) любитель християнской древности, сиречь, святых (християнских) икон и книг, довольный знаток и толкователь священнаго писания, из коего он более замечательныя предметы собственноручно изображал на картинах. Вид лица его и нравственность являли в нем внутреннюю доброту духа. Он был кроток видом и тих словом, но весма благоразумен и миролюбив. Он то, во время того мирнаго совещания, более прочих склонял свое общество к соединению с нами. Но к прискорбию его и прочих миролюбцев аще мир в то время и не состоялся, но блаженный оный миротворец в надежде на Бога с тою же мирною мыслею оставался, и тако свою жизнь во оном филипповском общежительстве продолжал, и нередко о мирном соединении им напоминал, и когда их более во враждебном духе к нам обретал, тогда сильнейше против их порицаний за нас воставал, и сии слова им предлагал: «Аще вы феодосеевых християн еретиками, и даже вне церкви, познаваете, то какоже присоединяюшихся от их к нашему обществу, овогда за некий пост, а овогда и точию с единем началом принимаете» [Книга филипповских соборных деяний, лист 122]. Таковыми и подобными сим благоразсудительными словами оный достопочтенный муж своих сообщественников к мирному соединению склонял, за что от неразумных и некия злословныя укоризны приимал. И они таковое понятие и разглагольствие имели о Петре Ивановиче Бушуеве: «Что он де плотию водворяется с нами, а духом с преображенскими християны». Но более благоразумными он признаваем был за блаженнаго миротворца, ибо он когда видел совершенныя неуспехи общественнаго примирения, то присоединялся к нам един, якобы желая и прочим показать оное благое действие; когда же и в том не успевал, паки присоединялся к ним, и они его с радостию приимали, и даже своею обычною епитемиею не облагали; егда же вопрошаем бе от наших християн: «Чесо ради ты тако сотворил, паки себе к филипповым присоединил?»; он со истиною отвещаше: «Яко того ради именно, дабы склонять их паки к мирному единству». С таковым благопохвальным намерением оный желатель мира церковнаго жизнь свою провождал на Братском дворе у филипповых более 50-ти лет и достиже маститой старости, и предчюствуя близкую свою кончину, но желаемаго миротворства от своих сообщественнков не предвидел, и абие оставя оное филипповское обиталище и предание их, и преселися паки к нашим християном. Филипповцы же уведевше о сем, и нецыи от них более сильныя в слове прихождаху и увещеваху его возвратитися паки к ним, оный же приснопамятный старец совершенно во очию их содержимаго ими мудрования отречеся, и вожделе вельми прияти иноческий чин, чего и сподобися получити, и наречен бысть во иноцех Паисий, в том и житие свое скончал, и погребен бысть честно на Преображенском кладбище, в лето 7355 [1847], месяца июня, день (?). И о сих дозде.
По сем же паки продолжим повесть о миросоединительном намерении и начинании, кое было в лето 7370-е [1862]. По обоюдному желанию начались разглагольствии о мирном единстве. В то время в филипповском обществе старейшинство духовное содержал некто прибывший из Одессы в Москву, Никито Яковлев, муж даровитый в слове и разуме, помощником же его, Владимир Терентьев, человек со изобилным словом, но к сожалению скуден совестию и поврежденною нравственностию. Сии то обои и председательствовали тогда от лица филипповскаго общества при миротворных разглагольствиях на соборах, которыя были между прочими значительнее: первый за Рогожской заставой, в доме Андрея Михайлова, филипповскаго согласия, а второй, еще более, у нашего сообщественника, Лариона Семенова, в молитвенном доме, на Тверской улице; и продолжались от обоих стран якобы в близком к примирению духе. Понеже утвержено было на предварительных собраниях, чтобы в настоящем миротворстве отнюдь не вдаваться в какия либо укоризны и порицании на первобытных отец, за их некоторыя неосмотрительности и разномыслия, яже о обрядех и обычаех християнских, судя́ по настоящему тогда гонительному времени, но простить им оное, и молить Бога о упокоении их в жизни вечней, яко же и на первобытных миротворных соединениях отцы наши творяху, о чем пространнее явихом во главе 2-й. На сем, втором собрании, более вели беседу и разсуждение о соединительном начале, кому должно и пред кем прежде оный {Начал} положить, понеже от обоих стран каждый себя оправдовал, и в том было немало затруднения. Тогда един от филипповскаго общества, благоразумный и миролюбивый старец, инок Пахомий, изрек памяти достойное слово к нашему обществу: «Вы отцы и братия признаете себе более нас правыми, сему и мы не прекословим, а потому вас и просим, как более здравых в разуме, зделать нам немощным снизхождение, положить первее вам примирительный Начал. Сему благоразумному совету вняв наше общество, чему не препятствовал тогда и наш духовный предводитель, отец Егор Гавриловичь, и уже начали было брать подручники к положению Начала, но вдруг, к общему удивлению, в филипповых предстателях зделалось некое замешательство и переговоры. И они приостановили наших в положении Начала, и стали им предлагать следующее: «Честное собрание! благоволите выслушать наше предложение, что мы де, в настоящее время, хотя и богоугодное дело миротворства совершаем, но однако имеем со своей стороны сомнение, что мы не согласились и даже не соизвестились с прочими странами своего общества, а потому и просим вас отсрочить сие дело хотя на несколько дней». Наше же общество таковому их предлогу, яко правдоподобному, вняли и по их желанию на соглашение им время дали. Но впоследствии от дел познали, яко филипповския предстатели, по псалмопевцу [Пс. 27, стих 3] были глаголющии: «Мир с ближними своими, злая же имели в сердецах своих». И они вместо срока неколиких дней продолжали несколько недель, и тем временем составили к нам 25-ть вопросительных статей о наших первобытных отцах, в самом укорительном и натягательном духе, забывше Бога и поправше свою совесть, и не помянуша своих предварительных глагол и обещаний: еже не судити первобытных отец. Мы же, видевше их таковую недобросовестность, лишились тогда надежды к желаемому примирению, но однако и еще предлагали на писме их главному учителю, Никите Яковлеву, поясняя ему, что он излишне расположился внушениям своего сотрудника, Владимира Терентьева, который при своем юном возрасте весма уклонился к славолюбной и величавой надменности, и в таком то будучи напыщенном духе изложил оные 25-ть статей, яко же выше явихом: в самом презорственном и укорительном направлении на первобытных отец наших, и вси их мирныя соединения признавал несуществительными, и нас к таковому же враждебному понятию на предков склонял. Таковыя то их неблагонамеренныя предлоги и прекратили уже совершенно оное наченшееся осьмое миротворство. На предложенныя же ими оныя враждотворныя статии, из коих на первыя четыре, и на девятьнадесятую, в коих более заключалось их филипповскаго о нас соблазна, хотя в самом правдоподобном смысле, ответил многотрудный и благоразумный Макарий Иванович, но обаче уклонившихся филиппан от мира церковнаго не возвратил. Мы же повсегда молим Бога за упокоение души его, что он сими ответами уяснил самую сущую истину церковной истории наших первобытных предков, и их миротворныя деяния, такожде и филипповых последователей уличил грубость и неразумие и фарисейское самохвальство, коим они заразились от своих предшественников, и по днесь им недугуют. При сем не излишним признали пояснить и сие, яко упомянутый оный филипповский учитель, Никито Яковлев, по некоторых мнению, за отклонность его от мира церковнаго вскоре приял кончину жизни, и неизвестно сподобился ли пред смертию покаятися.
И тако оное миротворство, уже 9-е, по отклонности филипповых, осталось недействительным, до лета 7384-го [1876]. В сем же году, ноября 22-го, паки подано было к нам, на Преображенское кладбище, писмо от согласия филипповых, ему же начало сице [Отеческия писма, часть 3, гл. 14]: «Последователям древняго благочестия о мире и любви пекущимся и истиннаго единения церковнаго желающим, Егору Гавриловичу, Александру Федоровичу, и прочим вашим духовным сотрудникам». Далее в сем писме изъявлено усерднейшее желание к соединению церковному, на что и наши духовныя отцы и попечители не восхотеша оставатися в молчании, но паче с любовию християнскою восписаша им благодарственное за их доброе намерение, такожде и свое изъявиша всеусердное желание к миру церковному, и в таком смысле послано было к ним ответное писмо, на имя их настоятелей: Никиты Ивановича, Ивана Максимовича, и прочих, такожде попечителей: Козмы Алексеевича, Григория Спиридоновича, и прочих, ему же начало: «Благочестивейшему о Бозе собранию, православным християном», и так далее, в самом приветсвенном и братолюбном духе приглашали их к мирному единству. И вслед за сими предварительными миросогласными посланиями последовали неоднократныя собрания в домех наших християн, купцов: Кочегарова и Москвина. А напоследок тогоже года, 26 декабря, от нашея Преображенския обители отец Александр и Егор Яковлев, и некоторыя от граждан: братия Москвины, Леонтий Яковлевич, и прочих человек до десяти, были в их филипповской моленной, в Дурном переулке, и продолжали беседу с их настоятели и с обыватели часов 5-ть, но к великому сожалению беседа наша, как в упомянутых предварительных собраниях, такожде и в их моленной не предвозвещала нам благаго и вожделеннаго миротворства, понеже в то время, во главе филипповскаго общества стоял не кто либо от духовных наставников, но от простых и безнравственных людей, тот же Владимир Терентьев, который препятствовал вышеупомянутому миротворному совещанию, бывшему в лето 7370-е [1862], но только он уже в сие время имел название Константина Матфеева. И как имена его были переменны, так и нравственность его была непостоянна, ибо он по силе своего слова владычествовал над своими неразумными старцами; ему покорны были и граждане их согласия, а потому он и не имел пределов своему злохитрому слову, как на предварительных собраниях, такожде и в настоящем. Он порицал нас раскольниками и признавал вне церкви, собственно за разделение отца нашего, Феодосия Васильевича, с поморцами. Но когда ему, Владимиру и прочим с ним, было указано, что таковыя несогласия решены были миром и было прочитано миротворное изложение 7235-го [1727] года [Отеческия завещания, глава 59; Макарий Виницкий, стр. 275], по сем же и мы вопросили их: како же ваш духовный предводитель, старец Филипп, зделал раздел с поморскими отцами, собственно из любоначалия, и никогда с ними не примирялся, а посему и не подлежите ли вы раскольнической вине? Константин же Матвеев на сие отвечал: «Отец Филипп ушол из монастыря не по вражде, но по случаю приятия тамо тропаря», и обещал оное время отшествия его подтвердить историческими писменными доказательствы. И по сему делу нарочито ходил к нему наш сообщественник, Т. П. Москвин, коему он по многим лстивым уклонностям однако ничего существительнаго ни мог доказать, ни на словах, ниже историей, а потому же при соборной беседе и решился отказаться от филипповскаго названия. Когда же предложили им: то какоже в книге вашей «Соборных деяний» [Филипповския соборныя деяния от 7331 (1823)] вси первобытныя отцы ваши подписовали «соборныя изложения» именовали себя филипповыми? Тогда ко ужасу всех, даже и их сообщественников, Константин Матфеев порекл оных своих первобытных отец неразумными и невеждами. Тогда мы паки вопросили их: «Аще ли же вы не филиппова согласия християны, то какия же именно, понеже в настоящее время не точию новообрядцев, но и старообрядцев много имеется различных обществ под названием древлеправославных християн?». Они же ответивше нам: «что мы де называемся и есмь християны старопоморских отец учения последователи». Мы же их паки вопросихом: «Ащели вы кореня и потомства старопоморских отец, то покажите нам своих духовных отец потомственную степень?». И они от сего предложения весма уклончиво начали отрицаться. Но когда мы более на том настаивали, тогда оный Константин Матфеев начал требовать от нас книгу, по которой и обещал нам показать своих духовных отец потомственную степень. Мы же на сие отвещахом: «яко не лет есть, и даже не возможно, еже иныя личности писменным видом о другом лице род жизни доказывать, но сие паче невозможнейше, еже бы от уничижаемаго вами нашего общества нашими книгами вам свою отеческую степень доказывать». И тако оный многословный и порицательный самохвал насколько извитием своих словес не красовался, но наконец безответен остался, ибо от последования старца Филиппа всеобщественно отказался, а к потомству старопоморских отец на доказательство, по неимению своея истории, безответен остался, от чего еще более в раздражительном положении оказался, и не точию на наших первобытных отец, но даже и на своих с великим порицанием выражался, во особенности бывшее миротворное соединение в Петербурге наших со старопоморцы опровергал и своих отец присоединившихся тогда весма злобно порицал: безумцами, самозбродами и рванью называл. И мы с великим прискорбием сия вся в слухи наша приимали, и нетерпя более продолжать беседу, оставя их, в домы своя поспешали. Но они, филипповцы, и еще чрез два дня паки нас к себе на Братский двор приглашали. Мы же вместо (мира) личнаго их посещения зделали на имя их попечителя Г. С. Космакова писменное заявление, в коем объяснялись о непристойных выражениях на первобытных отец их представителя К. М., и наконец объявили: «Если оный злохульный порицатель будет присудствовать при соборном разглагольствии, то мы при таковом члене не желаем быть участниками беседы. Тем и прикончился наш дальнейший с ними переговор о мирном соединении.
И сие уже было 10-е филипповых отклонение от мирнаго с нами соединения. При сем же не излишним признали привести во свидетельство и сие: яко филипповския предстатели, коим доводилось вести с нами беседы о мирных соединениях и они, ко удивлению всех благомыслящих, всегда отвергали первобытных отец бывшия с нами соединения, и охуждали их постановления, яко бы не законно и неправильно учиненныя. Наших же предстателей о сем к ним ответ был следующий: что мы бывшия примирения со старопоморцами и филипповцами, как в самом поморском монастыре, такожде и в Петербурге, и в Москве, в разныя времена и с разными людьми, которыя с нашей стороны были, и есть всеобщественныя и законныя [Ответы М. И. Стукачева к филипповым, на 4 статию] А что с вашей стороны не все к тому согласились, мы сему не виновны; виновными сему почитаем ваше и ваших предков несогласие и упорство, посему и растерзание Тела Христова справедливее надлежит приписовать не нам, но вашему отлучению от предков наших, бывшему в лето 7271 [1763]. Знаем что неприятно и противно вам слышать от нас такия противоотражения, но что делать, вы сами нас на это вызываете своими безразсудными порицательными отвергательствы первобытных отеческих мирных соединений, ни взирая ни на какия доказательствы, даже самыя первобытнныя и господствующия восточныя церкви, яко и во оной бывали случаи некоторых разномыслий и разногласий, даже и между освященными пастыри церковными; о чем во главе 2-й несколько явихом. Но когда милостию Божиею и тщанием церковных пастырей случающиися разногласии и распри в мирное единомыслие приводились на вся грядущия времена, во всех християнских странах, тогда никто из православных християн, ни цари, ни святители, ни священники, ни простыя опорочивать или отвергать и пересуживать не осмеливались. Вы же ныне Бога не бояся и человеков на срамляетесь, и в подражание Хама над отеческими мирными деянии надругаетесь. Понеже самая истина показовает: что вы ныне находитесь потомками и держитесь крамольнаго нрава некоторых неблагонамеренных ваших предков, а потому на слове хотя о мирном единстве и начинаете, но на самом деле того не совершаете, но паче на горшее успеваете, и даже в междуусобныя вражды и самыя душевредныя разделы впадаете [От того же, 4-го ответа М. И. Стукачева]. Ибо ведомо всем, что случися между вами в 7382-м [1874] году, яко не довлетися вам ко умирению своих християн, но противузаконно дерзнули друг на друга внешней власти клеветать, и един другаго еретиками начали порицать, чрез что и самый молитвенный храм на Братском дворе надвое разделили и несколько лет в таковом гневном раздоре службу Богу приносили. Причина же онаго раздора была всеяна их старейшим отцом, Родионовым, коего они удостоили оныя отеческия чести прежде время, о чем и сами много раскаявались. Понеже оный крамольный их наставник, Иван Родионов, родом был гусляк, присоединившийся к их согласию не более пяти лет, как они его уже и удостоили отеческой должности, и он не успев осмотрется, и не узнав как говорится в своей церкви не левыя, ниже правыя страны, и вскоре вдался в разныя подозрения и хулы, и к таковому его недоброму нраву нашлись неблагонамеренныя из их общества соревнители, а более кимрския и некоторыя от московских. Началом же их подзорничеству было приятие ими на сообщение, до познания, поженившихся, называемых «старожен», но таковое действие, только как видится по-новости, Ивану Родионову не было известно, что и казалось ему новым, и закону их противным. Но на самом деле у их первобытных отец, с соборными обсуждении, — старожены не извержению подлагались, но ко исправлению наставлялись, яко же поведуют их соборныя филипповския деяния, бывшия в Москве, в лето 7331 [1823], февраля, 16 дня, и в Угличе, в лето 7336 [1828], декабря, 25 дня [Книга филипповских соборных постановлений, лист 3 и 15]. А потому ясно сими соборными деянии показано: яко в их филипповском обществе уже издавна старожены не извержению, но исправлению подлежали. Но более грубыя и неразумныя (филиппаны) из их общества люди на первобытных отец своих положения не взирают и не почивая крамолы и раздоры в своем обществе воставляют, чрез что много себе трудов и заботы доставляют, но обаче ничтоже полезнаго успевают, но паче молва и междуусобныя распри в них бывают, о чем выше отчасти пояснихом. Такожде и зде еще поведуем о бывшем их неблагополучном соборе в Москве, в лето 7386-е [1878], генваря, 9-го дня; на коем тоже было намерение их обсудить о староженах, конечнее же отлучить их от сообщения, и подвергнуть суду и наказанию настоятелей и духовных правителей, приемлющих в сообщение старожен: виновниками же сему признавали 1-го инока Николу Кимрскаго, инока Иоанна Васильева, и прочих от духовных правителей, коих и подвергли отлучению. От граждан же знаменитых, кои сочувствовали сим отцам были: 1-й, калужский купец, К. А. Беляков, московския же купцы, Г. С. Космаков и братья Овчинниковы, востающая же против сих страна от коей были: 1-й, бывший настоятель братскаго двора, Иван Родионов Гуслицкой и свечник Тихон, и прочая, а от граждан же, фабрикант К. Т. Кушашник и купец Крупкин, и кимрской Михаил М. Сенцов, и прочая. На сей собор было приглашено ими от различных стран более ста человек. Но как вышеупомянутый Кузма Беляков, главный попечитель их московскаго филипповскаго молитвеннаго дома и с прочими не сочуствующими сему собору, не дозволили быть ему на Братском дворе, а потому они и принуждены были собраться в доме К. Т. Кушашника. Но к несчастию их, дело и там не удалось. Едва лишь они собрались и начали обсуждение, как внезапу появился к ним на собрание полицейский чиновник, и одним повелительным словом приказал им разойтись. Появление же сего члена, по словам их же сообщественников, было по доказательству и научению от противной их страны, не желающей онаго собора. И тако разыдеся оное собрание во своя страны с великим друг на друга негодованием и порицанием. Московския же их обыватели, восхотеша отмстить своим соперникам, зделали секретное донесение Рогожскому частному приставу, что в доме купцов, братьев Овчинниковых, находятся оставшияся члены того собора, более 20-ти человек, кои возставляют крамолы и раздоры в нашем обществе. Чему вняв, чиновник немедленно откомандировал кварталнаго надзирателя, дав ему приличное число полицейских служителей, и приказал строго наблюдати за входящими в дом Овчинниковых, и в поздний вечер, окружив дом, забрать всех находящихся в нем; что и было исполнено, генваря, 24-го дня. Всех взято было в полицию более 20-ти человек, в числе коих несколько иноков, и духовных отец. При допросе же их в частном доме не оказалось у многих писменных видов, а потому по арестовании и отправлены были под конвоем в пересыльной замок. По сему делу немало довелось братиям Овчинниковым постаратися, дабы освободить оных оклеветанных узников. И они, Овчинниковы, просили о сем ходатайствовать знаменитаго адвоката г-на А. М. Богдановскаго, который лично просил о том г-на Губернатора, в чем и была уважена его прозба. И оклеветанныя от лжебратии разрешены были от уз и темницы, и отпущены на свободу с поручительством о их граждан. Каково же было между ими впоследствии; злое или мирное произшествие, о том мы покамест надлежащаго сведения не имеем, но судя по их крамольным нравам добраго исхода не предвидится, ибо они множицею друг друга препирают, но сущности дела и сами не понимают: как о прочих делах, такожде и о приятии старобрачных федосеевых, и даже своих учителей за снисхождение староженым укоряют. А того сии соперницы не внимают, что первобытныя отцы, как наши, такожде и их, филипповския, еретическаго бракосочетания отнюдь в закон не приимали, но единодомовное сожитие староженом, точию по правине человеческой, а не по церковной, попускали. О чем мы довольне во главе второй сказали. Сию же главу желая скорее окончать, в заключение сего не излишним признали следующее сказать: да не возмнится кому от (православных) благоразумных читателей, яко в сей главе несколько приведохом от истории, как о междуусобных разногласиях филипповскаго общества, такожде и о отклонностях их от мира церковнаго, по какой либо неприязненной мысле на их, но собственно потому, дабы показать желающим знать сущую истину в каковом отношении находится филипповское общество к миру церковному. Но мы не взирая на их грубыя отклонности, соглашаясь со святым писанием: навсегда с ними единьства церковнаго желаем [Кормчая, лист 142, правило 66 Карфагенскаго собора, 8, 70, 93]; на оный евангельский глас уповаем: «яко невозможная от человеков возможна от Бога бывают», да к тому же и минувшия церковныя события нас уверяют. Хотя и много было их, отклонностей, от мирнаго с нами соединения, но были многажде и благопохвальныя примирения, яко же в лето 7299 [1791], в Петербурге; и по сем в лето 7308 [1800] некий от филипповских настоятелей к нашим преображенским християном присоединился всеобщественне по своей местности; такожде в лето 7312-е [1804], яко же выше поведася, присоединилась бо́льшая часть от Московских филипповцев, называемыя балчужныя, к преображенским християном. И мы о сих любомирных филипповых християнах радуемся и благодарение Господу Богу возсылаем, и первобытнаго их учителя, отца Филиппа, как правовернаго, яко же заповедаша нам отцы наша, поминаем, а деяния его в судьбы Божия оставляем [Отеческия завещания, глава 11]. Ибо имя его и с пострадавшими с ним повсюду в синодиках наших вписася отнележе в Петербурге церковное примирение учинися [Синодик мужеской моленной, стат. 3].
Сего блаженнаго миротворства и мы навсегда всеусердно желаем, а совершение онаго на волю Божию возлагаем. Сими словами и главу сию оканчиваем, а последующую, о степени филипповских духовных настоятелей писать начинаем.
Глава 7
О степени отеческой филипповскаго общества; поморских, московских и прочих стран и о их деяниях
Хранителей древлеправосланыя веры християн, именуемых – «филипповых» согласие или общество, возъимело свое начало, по сказанию християнских и внешних писателей, в царство Петра I-го, около 1720-х годов, от инока Филиппа, от котораго и согласие «филиппово» именуется [Поморская рукопись о старце Филиппе; Отеческия завещания, глава 59]. Согласно сему и внешния историки сказуют: что инок Филипп – отлученец поморской церкве и основатель своей, под названием «филипповской» [Сборник Попова, том 2, стр. 187, 3-го счета]. А потому и начинаем степень их духовных предводителей точию от самаго того инока Филиппа. Понеже степень церковных правителей, начиная от священных пастырей, иноков, и простых духовных учителей повсеместно между собою разногласия, яже о вере и догматех древлеправославныя церкве, не имели, изключая Вятковских, кои от древлеправославнаго закона отступили, а новопоставленное священство возлюбили. А потом и первый предводитель филипповскаго общества от поморских отец по грубости и властолюбию отъединися, якоже в пятой главе пространно пояснися, и созда свой скит, и братию собра, коим уставы и правила своя предаде. Сия была первая степень филипповскаго отечества. Но к сожалению благомыслящих весма скудна духовными плодами, ибо ведомо всем, яко кончина старца Филиппа была произвольная и скорая, а потому последователем его не пришлось воспользоваться никаковыми писменными духовными назидании от своего наставника.
Вторая же степень филипповскаго духовенства: по кончине отца Филиппа оставались два старца от ученик его: Терентий и Матфей правящии духовными делами [Поморская рукопись о старце Филиппе; Макария Виницкаго, стр. 276], кои, яко же рехом, не имея от своего духовнаго отца Филиппа никаких правил к руководству духовных дел, а потому беднии и мало послужили к назиданию своей духовной паствы, да к тому же и междуусобную учинили вражду, и даже самый душевредный раздел. Сия вторая филипповская отеческая степень еще менее принесла духовной пользы их обществу.
Третья степень: тоже по самовольной кончине оных двух старцев: Терентия и Матфея, оставалась уже в четырех духовных старцех их же согласия: Симеоне и Иоанне, и прочих, кои к прискорбию филипповскому не точию что не оказали духовных плодов их церкве, но даже послужили пороком и хулою и во внешнем мире за их разногласное, и даже богопротивное, самоубийственное учение [Макария Виницкаго, стр. 276], яко же пояснися во главе 6-й.
Таковы суть были ближайшия духовныя отрасли филипповскаго корене, сиречь, ученицы инока Филиппа, а яже от их прозябшия горестныя плоды, о них же не лет есть подробну исчисляти. Скажем точию о некиих, более вредных християнской церкве, как то о старце Евфимие, который в четвертых был от степени филипповских отец, напоследок возгордевся и отказался от них, крестил сам себя и завел свое согласие, называемое странническое, от коего и еще злый отрод самокрестов произыде [Макария Виницкаго, стр. 279].
Таковы суть были плоды северных стран филипповской церкви. Более же сих в тех странах во истории не обретохом, не точию духовных наставников, но и простых последователей учения филипповскаго, по случаю разногласнаго их учения и самосожигательства. Но в половине 18-го столетия под названием филипповских християн начали появляться в Москве и в Тверской губернии, в посаде Кимре, коих уже наши християнския писатели именуют новофилипповцами [Рукопись отца Е. Г.]. Понеже, как гласит история, что в то время в Москве бывшия 1-я филипповския наставники, братия Алексей и Григорий Яковлевы, кои прияли крещение от московских християн. Но как в то время в Москве было едино согласие християн, но сии Яковлевы, по вступлении своем в християнское общество, начали оное подзирать, и наконец, отделясь от от его, приняли наименование филипповых последователей. А насколько они были безполезны миру християнскому о сем во главе 6-й довольно пояснихом. Сия пятая отеческая степень филипповскаго общества.
А шестая степень, как видно тоже из християнской истории, произходила у их во упомянутой Кимре, но благоприятных плодов от их не предвидится. Как и внешняя история сказует: «Когда де в Москве, в Дурном переулке устроена была 1-я филипповская моленная, в кую и определен был наставником из кимрских иноков Варлаам. Но он немного пожил в Москве, и отправился в свою Кимру» [Очерки и расказы Ливанова, том 3, стр. 96]. И сей пастырь не заслуживает похвалы, ибо он не восхоте страдати с людьми израилевыми, но паче изволи вожделенное всем спокойствие. Таковы суть московския филипповския предводители первыя: инок Варлаам и Алексей Яковлев.
Седмую же степень главных филипповских настоятелей в Москве держал Григорий Нестеров, от коего в истории не видится полезнаго; как своей пастве, такожде и федосеевым християном, понеже им было отклонено с ними мирное соединение.
После же сего, Григория Нестерова, у филипповых в Москве уже не имелось достаточных, в духовном учении, настоятелей, а потому более к важным делам и приглашались от дальних стран. От коих в 7370-м [1862] году и был приглашен из Одессы отец Никито Яковлев: для переговоров с преображенскими, о мирном соединении. Но к сожалению сего знаменитаго мужа слову должно быть не соответствовала совесть, ибо во очию всех сотворися, яко оным мирное единство отклонися. Сей был осмый филипповской степени главный учитель и отец, но однако по означенной причине не оставил по себе доброй памяти.
Посем девятой во отеческой степени, на Братском дворе, был настоятель, Иоанн Родионов, который по своему недоразумию и безразсудной настойчивости не только что оказался безполезен, но даже и зловреден. Ибо по его мудрованию их филипповское общество уже во вторый раз в сем, 7386-м [1878] году, разделилось надвое.
В настоящее же время у их, на Братском дворе, заведует должностью старейшаго отца некто N. N.., который не точию что может священнаго писания знать, или людем учение приподать, но как говорится и аминь порядочно не может сказать.
И сия суть о нравственных доблестях филипповских духовных предводителей, как северных стран, такожде и московских християн. А яже по отдаленных странах их наставники настолько неразумно, и даже душевредно действуют и поучают, так что в последствии от их же самих друг друга за некоторыя учения безчествуют и порицают. О сем между прочими ясно показует опровержение самое справедливое от их же инока Е. на Углицкий их филипповский собор, бывший в лето 7336-е [1828]. И сие возражение на их оный собор зделано весма правдоподобно и законно, понеже многими доводы от святаго писания пояснено. Там между прочим сказуется тако [Книга филипповских соборных деяний, лист 32]:
«Что отцы Углицкаго собора не добре статии свои узакониша, не добре в первой статие своей повелеша основания веры полагати на учиненных ими статиях. Не доброе в третий своей статие повелеша отлагать на год святое крещение. Не добре исповедь оглашенному, неизвестно каковую, пред крещением положили. Не добре оглашенному налагаите епитемию крещеннаго. Не добре в пятой статие новоженов в полную свою церковь приняли. Не добре им на том же соборе развод малаго вида указали. Не добре того Углицкаго собора отцы в той же статие трех ради четыредесятниц с малым видом развода новоженов соединяют с християны. Не добре в той же, пятой статие, попустили новоженом ходить, яко верным сущим, к покаянию. Не добре Углицкаго собора отцы странно некако и необычно советнически повелеша спрашивать грехи, и чрез то покаяние давать им тайны, тоя великия благодати, малаго ради роспуста брачнаго. Не добре убо Углицкаго собора отцы и в шестой своей статие, подобно пятой, написали о староженах: купно их за едино с новоженами приимати, и равно запрещение им даяти. Тоже и в девятой статие писано есть противно всему священному и божественному писанию. Сего убо ради собор той Углицкий, непоколебимо в вере стоящими человеки неприемлется: яко они своим изволением последоваша, таковии вси еретицы быша [Максим Грек, гл. 8,16,18 и 79]. Како рече не во отступниццех Божиих вменятся таковии [Кирилова книга, гл. 34 и 36]. По Апостолу и Златоустому проклятию подлежащии, аще и мало что от преданий подвигнут [Книга о вере, лист 198, 199]. Углицкаго же собора человецы не мало подвигнули своим изволением, многия статии противных святых отец уставом и указанию их написаша, и положенныя святоотеческия чины презреша, своя же чиноположения уставиша, и сими словесы тая утвердиша, глаголюще в первой статие свое сице: “Основываться на силе учиненных сих статей”. Сие в противность апостолу Павлу, глаголющему: “основания бо иного никто же может положити паче лежащаго, иже есть Исус Христос” [Апостол, зач. 128, 3-е]. И сие основание соборныя церкви [Катехизис Великий, глава 27, лист 125 об.]. И сие то основание Углицкаго собора отцы оставили, а повелели основываться на статиях их учененных для приятия в церковь новоженов, и для совокупления своего с ними. Ибо отцы собора филипповскаго не точию согласием и советом, но и злопагубным своим подписанием, вси единодушно приняли смрад новоженский, чего и федосеевы не дерзают творити. Но они вси согласно распутное и злосмрадное новоженство прияша, и нехотящих прияти, малым видом развода прельстиша. А какой той малый вид не объявиша, но во всем подобно льстцу содеяша, егда малыя ради снеди его печать прияша не трезвящиися человецы. Сице и собора Углицкаго отцы малаго ради развода, новоженов в церковь приняли, увы прелести что сотвориша, что прияша мерзости запустения новоженскаго, и каковою совестию дерзнули растворити дверь церковную ко входу скверному новоженства, дивлюся убо и ужасаюся, како мнози человецы того собора не уразумеша, како погибоша. И како новожены под видом малаго развода внидоша в сущую церковь, а како и коею дорогою внидоша; слышите потаковники новоженския, ибо вы в статиях своих написаша новожена, после трех четыредесятниц ради малаго вида развода, их в церковь приимати, сиречь, поставити на дворе особую горницу и жити в ней жене, и яко бы тем будет новожен миром не зазрен, а потому и от християн не отлучен. Зде да будет разумно, яко отцы Углицкаго собора совершенно себя забыли, и недозволенное церковию разрешили, и сего святаго повеления не внушили: не точию иереом, но ниже архиереом и епископом противу канонов что дерзати повелено [Номоканон, предисловие, лист 3]. Оный же же Углицкий собор многия статии свои новоумышленно и не правильно издал и написал, за что и подпал он под святоотеческую клятву, сице претящую [Кормч, гл. 8, иже в Гангре, лист 61, клятва на законопреступников]: “Церковныя, рече, преступляи законы, и новое нечто вводя, от своея буести, да будет проклят”. И еще в своей третией статие написали то, чтобы требующаго святаго крещения год не крестити, а приглаше́наго исповедовать, и половину крещеннаго епитемию ему давати: в противность апостольским учениям и деяниям. Ибо Апостол веровавшим трем тысящам повеле четыредесять дней поститися, и потом крести всех, а Филипп, апостол, на пути каженника крестив [Потребник иноческий, лист 15; Книга Григория Богослова, слово 40; Книга Василия Великаго, слово 3, посл. 185; Деяния, зач. 20]. И прочих доказательств много зри тамо пространно, и се ви́детели возлюблении, какову смертную язву учинил есть в церкви собор Углицкий, еже не точию спасению человеческому соделал припятие, но и в сем святым отцам и богословцам, паче же самому Исусу Христу противная. А еще написали в той же своей статие: оглашеннаго повелели исповедовать, а как, по какому писанию, или обрасцу, того не написал. И аще тако яко же православнаго християнина узаконяют исповедовати, то вотще́ вера их, и крещение суетно есть, еже некрещенному даяти благодати: тайну покаяния. Аще инако како, то достоит им устав положити, а не просто-бы в недоумении и сомнении их оставить, ибо писано есть сице: “на вся елико аще твориши, или глаголеши, имей свидетельство от святых писаний” [Никон Черногорец, слово 18 и 19]. А они ниже едину черту о сем от святых книг написали, но учинили в противность им. Понеже сказует писание от лица Господня тако [Катехизис Великий, глава 29, лист 123]: “Измываю бо и очищаю и потребляю крещением, все грехи крещаюшагося”. К тому же Углицкаго собора отцы зело необычно и богопротивно, и всем отцам несогласно, повелевают оглашенному ко крещению налагать, за неизвестный каковой любо грех, епитемию, половину против крещеннаго, коего положения нигде не обретается, ниже во уставех писменных, ниже в канонех харатейных, ниже кормчаях печатных. А вы где таковое новое уложение обрели; того не объявили. Сего ради и не без сумнения есть ваше странное умышление, ибо мы не смеем ни едино что творити кроме писаннаго, а не по писанию мудрствующии, тии вси еретицы. О сем зри доказательство, благовестник от Иоанна, зачало 27, лист 125. И еще в не утверженной словом Божиим 3-й статие собора того не малше есть сомнение. Егда рекоша: которыя де отцы и матери имеют дети малыя, таковых приимать, чтобы и дети с собою приводить, на крещеннаго епитемию налагать, а кроме сего не делать, и прочее. Сие положение елико разуму святых не согласно, толико и писанию разногласно, к тому же и ни единем свидетельством не утвержено. Сего убо ради и неприятно есть нам собора того суетное умышление, ибо писание глаголет сице [Альфа, глава 82]: “Всяко убо писание, богодухновенно и полезно есть”. И сего ради должны есмы во всех, их же глаголем и творим, имети показание от божественных писаний, и проч. Углицкаго же собора отцы впали в немалую пропасть погибели, ибо они в пятой своей статие написали и то, что совершенных отступников, явных еретиков, оправдывающих самобрачие, принимать в свою християнскую веру и церковь с малым видом разнаго сожития, и после трех четыредесятниц их купно принимать к молению с верными, жити же им во едином дому, имением, промыслом и совокуплением, но точию разными келиями. И се самая сатанинская прелесть и пагуба душевная вводится в церковь Христову. Яко же показуют книги сия: Игнатия Богоносца, в послании первом, к Тралияном; Апокалипсис, глава 13; Кирилова, глава 3. Но отцы собора не известно где изобрели таковыя уставы, еже бы новоженов без совершеннаго развода приимати. А потому и заметно, что не было на том Углицком соборе благодати, и не присутствовала мудрость Святаго Духа, но господствовала там гордость, непокорение истине, и кичение, яко же слышно было между прочими, проливалося из уст Якова Антонова, чего на соборе не должно и помыслити, нежели глаголати. Но как по писанному величавых уста учатся еретичеству, малоумный же завидя умному впадает в ереси, и прочая [Златоуст, слово 21 и 22]. Сия же немалая есть ересь: еже совершенных отступников новоженов приимати малаго ради вида развода во общение моления с православными християны, и сподобляти их тайны покаяния. И тако аще собор Углицкий удостоил новоженов сего святаго таинства “покаяния” ради малаго развода, то что еще больше сего требовать всему соньмищу новоженскому; уже нет препятия ни единому новожену к соединению церковному, по случаю приятия их на покаяние, — но к прискорбию християнскому, не законное. Понеже Иоанн Златоустый истинным и законным покаянием познавает сие покаяние: киеже прежних отступити злых токмо, но и еже большее показать доброе. Пастырей же наказует: смотрите, рече, плоды покаяния [Беседы евангельския на Матфея, нравоучение 10]. Углицкий же собор покаяние учинил новоженом притворно, и прелести ради неразумных, написали льстиво, аки бы разница есть в том, что де их сидя исповедовать, а где таковый устав и повеление; сего не указаша, а только скудоумных человек тем прельщают. О, прелести соборная, повеждь нам: где и когда кто читывал-ли таковыя правила, чтобы был у святых чин не единообразен покаяния. Дивно убо и странно сие ваше соборное умышление, и аще есть едино покаяние совершенное, а другое неусовершенное, едино истинным християном, а другое новоженом, то покажите нам, где и в коих книгах таковое чиноположение зрится. А нам дивно есть таковое ваше узаконение и зело необычное, кои святым правилом и уставом весма не согласное. Но вы изложили на том не богоугодном Углицком соборе и чин новый, како новожена исповедовать, не́како советнически, котораго советническаго покаяния ни един не дерзнул от святых учинити, разве папы римскаго. И сего ради странно есть и противно святым ваше новоизданное узаконение, и положение нововнесенное, кое испровергается и осуждается сими словесы [Беседы апостольския к галатом, лист 1477, зач. 199]: “Аще аз рече (Павел) или ангел с небеси благовестит вам, паче еже приясте, анафема да будет”. И прочия книги согласно сказуют: “еже бы кроме божественных писаний отнюд не учити и ничтоже творити” [Никон Черногорский, слово 14]. Углицкий же собор не малое, но и зело великое злое дело учинил есть, еже чрез незаконную исповедь соделал новоженов яко бы истинных християн. Понеже по святых сказанию [Альфа, глава 53]: покаяние есть второе крещение, и аще в незаконном сожитии не допускает святое писание ко крещению, то яве есть яко и не ко исповеданию [Апостол толковый, лист 694,706 и 707]. Углицкаго собора отцы любодеяние новоженское не точию до крещения, но и по крещении, здравием учинили и всю болезнь от сердца новоженскаго отъяли приятием их на исповедь противузаконную. По писанному: премерзско есть и зло, еже достоинством святыни недостойных ущедряти. Недуг же сей святыми отцы ересем причтеся, и нарицаются таковии кривосказатели [Феотрон, гл. 3, лист 41 и гл. 16, лист 226; Никон Черногорец, слово 1]. И кто не ужаснется от вышереченнаго запрещения, и не послушает гласа Господня; разве той, иже живот вечный погубити хощет. Понеже отъемлющии, или что приложити смеющии к богодухновенным словесем, единем от двух недугуют, или убо не веруют Духом Святым написанному, или суть неверни, или себе непщуют мудрейших Святаго Духа, и что иное токмо беснуются».
Дозде от обличения Углицкаго собора, писанное иноком Е.
Аз же от многаго его правдоподобнаго опровержения малая зде написах. Прочия же самим доброразсудительнейшим отцем и братиям предлагаю на подробнейшее разсмотрение онаго возражения на Углицкий собор внимательне вникнуть, и мню яко с великим страхом и ужасом деяния онаго собора в сердцах своих восприимите, и злохульствующих нас филиппан вопросити сице рекуще: рцете нам чада Копернаумова [Матф., зач. 42], како вы своих учителей восхваляете и до небес превозносите, а наших первобытных отец уничижаете и порицаете, яко неправомудрствующих о некиих преданиях, за что еретиками и вне церкве познаваете, но святое писание иначе судит. Аще рече [Максим Грек, слово 78]: «от неведения сие творит, тогда наричется заблудник, а не еретик». Таковое нечто бысть и о наших предках, ими же вы нас и по днесь невинно злословите, что ваши де предки незаконное надписание на честных крестах имели, и прочая. Мы же к таковым отвещаем: Аще что по недоумению и было, но теперь оставлено, и в том принесено извинение, и прощение, и учинено законное примирение, яко же пространее поведася во главе 2. Вы же что речете нам о вышеписанном вашем Углицком соборе, который вашего же общества член, инок Е., с ясными доказательствы от священнаго писания уличил онаго собора отцев нововымышленное ими душепагубное зло, что они не добре статии свои изложили, и повелеша основания веры полагать на учиненных ими статиях. На каких же именно слыши: 1-е, чтобы отлагать на год требующим святаго крещения; 2-е, оглашенных пред крещением исповедовать; 3-е, таже оглашенному и епитемию за грехи положиша; 4-е, новоженов без совершеннаго развода в свою церковь прияша; 5-е, какой-то развод малаго вида новоженам уставиша; 6-е, а именно с треми четыредесятницы поста в сообщение их прияша; 7-е, исповедь новоженым незаконно учиниша; и прочия незаконности, о их же отчасти выше пояснихом, а желающии видеть в подробности да почтут в книзе филипповских соборных деяний, от листа 32 и до 96.
Мы же зде точию о сем несколько пояснихом, каковое зло притяжал себе оный собор Углицкий своим нововымышленным изложением статей, по гласу их же сообщественника, инока Евфимия, который в силу священнаго писания доказал: 1-е, что оный собор подлежит еретичеству; 2-е, признал оных отцов собора отступниками Божиими; 3-е, противниками святых учения; 4-е, собор оный льстецу уподобляет; 5-е, отцов онаго собора не разумными и погибельными именует; 6-е, законно-преступными и клятве подлежащими признает; 7-е, противными Христу и святым его; 8-е, еретичествующими; 9-е, суемудрыми; 10-е, падшими в пропасть погибели; 11-е, сатаною прельщенными; 12-е, злочинными. Дозде от обличения Евфимиева.
И да не возмнится кому от любомудрых читателей, яко по человечеству, нечто на сей собор преувеличихом в нашем изложении, но ни не буди нам сего. Понеже онаго собора неподобная деяния ведомо есть многим от филипповскаго общества начетчиком. Но к сожалению, что они по нерадению о своем церковном благосостоянии весма безпечно к сему делу относятся, но даже ко удивлению между собой разногласят. Одни говорят: «что оный собор во многом противузаконно изменил, и церковная предания нарушил», а другия говорят: «что он велико дело сотворил, понеже человеколюбне и снисходительне судил, и мы его предания по днесь свято почитаем». Сии глаголы произнесены на нашем с ними соборе, в их филипповской моленной, в Москве, 26 декабря, 7384 [1876] года, самым резким, хотя и не справедливым, их членом К. М., который поминутно разил нас разделом нашего первобытнаго отца Ф. В. с поморцами. Мы же ему в ответ примирения как лично отца Ф. В., так и нас, его последователей, представляли, и потому о деянии законопреступном углицких отцев их филипповскому собору представляли. Они же злоковарно слухи своя отвращали и правдоподобных ответов нам о понятии их о Углицком соборе не давали. Из чего многия слышатели и заключили, что филипповы, по словеси Господню, комары процыжают, а вельбуды пожирают, сиречь, нас федосеевых, за маловажныя погрешности, и уже миротворством исправленныя, вне церкви познавают, а в своем обществе Углицкаго собора вышеписанныя законопреступлении ни во что вменяют, и никогда и ни кем, и ни какою епитемиею того не исправляли и не исправляют. И о сем мы более не желаем продолжать, но благоразумным читателям самим представляем вышеписанное разсуждать.
Зде же признали за нужное и еще несколько о филипповских нелепостях сказать. А именно, что их духовныя учители, как словесно, ни в силу закона, многая пастве своей предавали, такожде и в книгах своих неправдоподобная написали, как в упомянутой книге соборных их деяний, и кроме Углицкаго на прочих соборах, как о делах церковных, такожде и о истории християнской, не точное изъявление указали. Между прочими многими мы зде приведем на среду, хотя едину: якоже поведуется в книге оной, на листе 123-м. Несправедливость о поморской истории: якобы Мануил Петров введе во обитель, поморскую известную новость, сиречь, о внешних богомолие, и тою новостию раскол учини в лето 7247 [1739]. Сие весма несправедливо показано, хотя и точно что сие содеяся в Выгорецком монастыре, во оных годах. Но главное настоятельство держал тогда не Мануил Петров, но Симеон Дионисов [Выгорецкая история, стр. 292]. А почему филипповы отклоняют оное событие от его; мним яко потому, что они Симеона Дионисова в своих синодиках пишут и поминают. Мы же многия труды его бывшия в пользу древняго православия свято приемлем и почитаем, а за оное случившееся событие, во время его управления, поминать имеем сомнение, а потому и оставляем сие в судьбы Божия. Дозде несправедливость о истории християнской.
А еже, в той же книге, на листе 126, их филипповския учители, ни в силу закона, от ереси приходящих, с постом вместо миропомазания приимати к себе узакониша, и таковое их взаконение, еже бы церковную вторую тайну миропомазания постом заменити, явное есть сопротивление закону церковному, и учению святоотеческому, и сущее подражание самосмышлению еретическому, о нем же во святых книгах много поведано. А сие бысть во очиею нашею, егда Прусский инок, дивий Павел, от истиннаго православия в самобрачие отпадал, тогда между прочими своими плевельными учении и сие предал, т. е. к оному незаконному супружеству, вместо венчания, несколько недель поститися повелевал [Книга несвященнаго брачнаго сочитания, Прусской печати, 1872 год]. Зде ясно показуется, яко филипповския учители вместо миропомазания пост предали, и таковым действием еретикам поревновали. Понеже писано есть: «Аще и пост не согласен правилом церковным отнюдь не приятен Богу». Зде воньми всяк благоразумно, естьли бы возложением поста можно церковное таинство миропомазания заменять, то должно быть тем же постом можно будет и четвертую тайну хиротонии совершать, и прочии? Дозде и о сем филипповском неразумии.
Еще же ведомо есть, якобы филипповцы и по ныне некоторыи имеют некое причастие и воду Агиазму, т.е. Богоявленскую [Отеческая степень, лист 73]. И еще подобная сему в той же их книге соборных деяний, на листе 212-м, их же учители сказуют: яко хлеб Пресвятыя Богородицы, аще указано действовать священнику, в неприсутствии же его мощьно суть и иноку с братиею. И сие положение тоже преисполнено святоотеческим уставом сопротивление. Ибо никто, последних сих времен от блюстителей православия, не дерзнул сего написать. То како же филипповския учители смели сие предать, еже бы простолюдину священнодействие совершать. Да к тому же они клеветою на нашего Феодосия Васильевича вопят, что он де при крещении дерзнул поручи надевать.
И еще на листе 258-м писано: яко Феодосий Васильевич, и с последователи его, раждающим женам священническия молитвы давали и молитвы на исповеди прощальныя и разрешальныя читали. Такожде и на исход души, и над преставльшимся на погребении, и на панихидах, молитву «Боже духов» и молитвы разрешальныя на погребении глаголемыя властию иерейскою, сами читали, и прочия сему подобныя оставляем. Во ответ же на оныя, сие скажем: Не вемы кто и каковою верою и совестию таковую ложь на нас и на предков наших написал. Но к удивлению, яко филипповский мир, аки сущей истине тому внял, и в своей книзе таковую неправду написал, разве точию потому, чтобы чернить память наших предков во всем мире. Но обаче истина собою свидетельствует: что у нас не имелось и не имеется таковаго действия, ниже в книгах наших уставных от оных что пишется, ниже кто от самых враждебных нам людей указать на самом деле то возможет, а яже тая и иная многая злохульства писана суть в книзе той на предков наших, сему удивлятся нечего. Ибо они яко лишении ума, кои и на владыку возносятся, оглаголают и подозревают, яко же имеется в той же их книзе, на листе 286-м, хуление на словущаго и премудрейшаго отца и учителя Андрея Дионисовича, коего жизнь и учение и разум не токмо християнский, но и внешний мир похваляет, наверно и филипповския того не отвергают. А почему же они в книге своей хульная порицания и вины на онаго помещают, яко бы он нечестиваго за некия добродетели признавал за благочестиваго. Таковым облыгателям подобно есть рещи оное пророческое слово: «Немы да будут устны льстиваго, глаголющая на праведнаго беззаконие, гордынею и уничижением» [Псалом 30, стих 19]. Ибо Андрей Дионисович добре ведал оное священное писание: «Аще кто глаголет нечестиваго, праведен есть, проклят от людей будет» [Приточник Соломонов, гл. 24, ст. 29]. Ибо благочестием нарицает истинную веру: «Понеже благочестие не иное что есть, как почитание Бога» [Августин Иппонский, книга 10, гл. 1, стр. 171; Беседы Апостольск., лист 2145 и 761, и 439]. А потому и не дает веры, чтобы оное изложение, было собственных мыслей Андрея Дионисовича; но некиих лукавых человек, кои по униатски незаконное молитвословие прияли, и себе тем пред неразумными оправдали, якобы оный премудрый и благочестивый муж, Андрей Дионисович, на оное дело соизволял; к тому же якобы и несвященнословныя браки оправдал, и хотя народно де того и не провозглашал, но всяко приближенным своим о том внушал. Сии слова тропарщики и самобрачники блядут. По реченному: со всякою удобностию на мертваго лгут [Сборник Попова, том 2; слварь Павла Любопытнаго, стр. 138, 3-го счета]. Но к сожалению, неразумныя филиппаны подобным лжам внимают, и без разсмотрения в своих книгах помещают. И о сих дозде.
Прочия же неподобная изложения книжицы оныя, краткости ради, оставляем. О другой же их книзе, состоящей из ста статей, хотя мало нечто скажем.
Оныя статии филипповцы яко некий символ почитают, кои их от соединения с феодосеевыми и с прочими отклоняют [предисловие Стостатейника]. А того беднии не внимают, что такое учение впреки святоотеческому пребывает. Ибо они всячески пещися о церковнем соединении повелевают [Кормчая, прав. 66, 70, 93 Карф соб., лист 142, 154]. Чему и наши первобытныя отцы и с поморскими соревновали, и мирная соединения между собою учиняли. А оная книга «стостатейник» мирнаго соединения не советует творити, а потому мы и не желаем о ней более говорити.
Таковы суть филипповских отец писанныя изложения, таково же и словесное учение от коих зде хотя вкратце воспомянем, яко повсюду слышется между ими разногласия и распри. Как о прочих действиях, такожде и о помяновении поморцев, одни поминают Самаринских, т. е. Симеона Дионисовича и прочих, а другия не поминают [Отеческая степень, лист 72]. И подобных сему разногласий немало, о их же отчасти выше пояснихом, как то о разногласии их о староженстве и о приятии в свое согласие от феодосеевых, и от прочих понеже в некоторых есть более снисходительныя филипповския наставники, приимают к себе от феодосеевых с шестинедельным постом, а овогда и с самою малою епитемиею. Противу сего и наши такожде от их приемлют. Но обаче более враждебныя к нам филипповцы, кои обитают в Саратовской губернии, во граде Царицыне, и они до таковаго неистовства достигли, что от нас переходящих к ним перекрещевают, и сие творят, даже в противность своих Московских сообщественников [Писмо Ф. А. в Москву, 7386 (1878) года]. Да к тому же и учение держут весма им противное, а именно: «Естьли кто от них женится, то непременно должен снять с себя крест и не носить его до тех пор, донележе не будет иметь с женою смешения». Каковаго положения несть даже и между мнимыми християны, разве точию между мусульманы. А еще оныя же царицынския филипповцы младенцев от своих новоженых не крестят, на том глупом основании, что он вырастет и грехами осквернит крещение, а потому и отлагают оное на конец жизни пред смертию. И сие творят в сопротивность святоотеческаго учения, кое о познавших истину, а отлагающих святое крещение на время или к смерти, тако сказует: «Яко таковии незапною смертию наказуются» [Беседы Апостольския, лист 2904, 1144, 2907; Катехизис Большой, лист 133; Маргарит, слово 1 о оглашенных, лист 385]. Подобныя сим и еще есть иномнительныя филипповцы в вятской губернии, кои тоже от нас крещение повторяют, да еще и злейше того сотворяют, яко вместо тела умершаго с его могилы землю отпевают, и прочая злая содевают. Такожде и в Орловской губернии есть филипповцы, кои с Московскими не соединяются, понеже учители их некоторым самомнением заражаются. А имено о праотце Адаме они понимают так: что он еще в райском селении сотворил с женою совокупление, а кто так не понимает, они к себе в общение не приимают. Подобно же сему и в Вологодских пределах филипповцы между собой во многом не соглашаются, за что друг с другом в молении не сообщаются, и учители их между собой враждебне разглашаются. А в Новгородской губернии, во особенности же в Черепльском уезде, филипповы християны многия есть в некоторых християнских обрядах и уставах с ними согласны [Из разсказа Черепльских: иконописца А. С. и купца А. М.]. За что от своих, более в грубости закоренелых, некоторыя порицания претерпевают, за то что они с нами более в мирном духе пребывают. Ибо у филипповцев таковые люди, как видится, не уважаются, которыя смиреннаго и миролюбиваго духа придерживаются. Но кои более вражды, как между посторонними и своими, всевают, таковыи у их во уважении и в славе пребывают. Между прочими наших времен заметен нам был, славящийся у их знатоком закона християнскаго, некто Владимир Тереньтьев, а в последствии он же именовался Константин Матфеев, но к сожалению что совесть и нравственность не соответствовали его значению. Он ни мало крамолы между своими возставлял, такожде и мирная соединения с нами отклонял, яко же выше отчасти поведася. Зде же паки речем яко по миротворном начинании, бывшем в лето 7384 [1876], оный К. М. остался недоволен нашими сообщественники, кои по желанию его не зделали ему вещественнаго возмездия, за что он обещал склонить свое общество к мирному единству. И так в не получении онаго зделался к нам еще более враждебным, и написал книжку о наших первобытных предках, и по писанному смешав ложь со истиною, и облек оное изложение в свое красноречие с злобными и порицательными насмешками. Хотя он и не от своего имени издал тое сочинение, но по разуму каждой за собственное его признавал. И некоторыя из наших християн читавше оное порицательное на первобытных отец наших изложение имели о том великое сожаление, что вместо вожделеннаго пособия, от того человека к мирному соединению, произошло более зловредное для простаго люда внушение. И желали некоторыя от нас на оное зловредное сочинение возразить от святаго писания, и от нашея християнския истории. Но Божиим Промыслом сотворися иначе в том же году, в нем же сочинение издаде, он вскоре скончав житие свое. С тем вместе кончалась и опасность большаго церковнаго между нами с филипповыми смущения. В то же время и еще был некто от филипповцев, книжный торговец В. И., хотя и Москвы житель народу неизвестнаго, и имене переменнаго; который при прочих на нас порицаниях, и своих величаниях, говорил и то, что мы де имеем церковь в трех чинах, коея федосеевы находятся вне, и обещал то доказать от писания [Сии речи были сказаны на собрании в Преображенском доме Василия Яковлева, 7385 (1877) г., августа, А. Д.]. Но на самом деле, как он, так и на Братском дворе, во ответе нам отказали.
Итак по возможности избравше от истории о степени филипповскаго общества более значительных духовных правителей и учительных людей, и их умственная и нравственная деянии кое изложено во указанных филипповских книгах, и кое видимо и деемо есть на самом деле в их обществе и по настоящее время. И из чего ясно показует, яко сия степень отеческая филипповых являет: что они ни есть старопоморцы, но чисто были филипповцы, по северному краю, а в Москве возникли незаметным образом, в половине 18-го столетия между мирными християны, а потому и признают их новофилипповцами. И о сих дозде.
Теперь предлагаем на разсмотрение и разсуждение благомыслящих и добросовестных читателей, и просим внимательне вникнуть и сообразить действия и учения филипповских и наших духовных настоятелей, о их же деяниях и учениях выше во главе 3-й отчасти изложихом. И тако християнскою совестию поразсудить, а трудившагося в собрании сем, за какое либо недоумение милостиво простить.
Глава 8
О обрядех и уставех, соборных и келейных, филипповых християн
Се отчасти пояснихом в вышеписанной главе, о степени и о деяниях духовных и учительных людей, последователей старца Филиппа. Зде же признали за нужное привести на среду несколько о их обрядех церковных, и о уставех, и о келейных молитвах, положенных от наставников их; и сообразить хотя несколько со уставами и с правилами святоотеческими, насколько они будут согласны, понеже филипповы християны вельми нас в некоторых обрядах зазирают и уничижают. А потому отселе и начинаем писать по-статейно: их обряды действия и уставы, а на неправильности их приведем свидетельства от святаго писания.
Понеже ведомо есть всем, что первобытный их предводитель Поморским уставом возгнушася, а своего не написал, и по скорости своея кончины никаковых правил и уставов своим ученикам на писме не предал, а потому ныне у его последователей во уставех богослужебных, и в прочих чиноположениях имеется неправильность, и даже междуусобное разногласие. Более же важныя неправильности следующия:
1-е. Начал приходный на соборе и в келиях творят неправильно: полагают по отпусте осмый поклон с крестным знамением; неведомо по какому свидетельству. Естьли же по уставу Постныя Триоди, в которой указует иконы целовати и поклон полагати; филипповцы же икон не целуют, а поклон осмый полагают. То яве есть, яко не соглашаются и сему Триодному уставу, противяся же и тем уставом, кои осмаго поклона не указуют, яко же сии: Псалтырь со возследованием, лист 31; и Сын Церковный, глава 32, 34, 35; такожде и в учебном Псалтыре Иосифовском, лист [?]; и Служебник Иосифовский, в Начале Литургии Златоустова; и Часослов Иосифовский, лист 8. Ибо в сих означенных книгах вси поклоны в Начале приходном перечисляются по единому, и к каждому стиху поклон полагати повелевается, по отпусте же поклона с крестным знамением не указует. Но абие повелено «поклонятися власти, и на четыре стороны около тебе стоящим людем» {Сын Церковный, гл. 35 и 36]. Мы же соглашаясь сим священным указаниям, и предков наших содержаниев, полагаем в Начале точию седьмь поклон, а осмый якоже указася, аще на соборе, власти и людем; аще ли же в келии – на едине, сотворше молитву Исусову и поклоняся до земли, без крестнаго знамения, идя мысленно ко отцу своему духовному, глаголя: «Простимся Христа ради, отче честный, и благослови», на молитву или на ино кое дело [Отеческия писма, часть 1, глава 110]. Такожде и Сын Церковный [Глава 81, 89] повелевает: Рцы всегда ко всякому делу: «Благослови отче»; и егда пити начнеши воззрев на образ и перекрестив лице свое, рцы: «Благослови Отче». Се ясно показует яко прощения и благословления требующий, на какое либо дело, аще будет един наедине, то прощается и благословляется заочно. Тако святии угодницы Божии творяху. От коих еще на среду приведем, яко же и святый архиепископ Стефан Пермский сотвори: «Едущу ему мимо обители преподобнаго Сергия, яко за десять поприщ, став сотвори Начало и обычную молитву, и поклонися святому Сергию, на ону страну идеже он житие имеяше, прося у преподобнаго прощения и благословления» [Житейник преп. Сергия, лист 79]. Сице творяху и наши первобытныя отцы, и нам такожде предаху: на приходных и отходных седмипоклонных Началех, аще будет другий брат, то по отпусте у него прощаются, а наедине якоже выше указася, у духовнаго отца, заочно. Сие и внешнии историки подтверждают: «Яко в християнах повсюду полагали в Начале седмь поклонов» [История Андрея Охтинскаго, стр. 152]. И сие свидетельство от враг, по писанному, достовернейше бывает [От Марка Толковое Евангелие, зач. 19, лист 28 об.]. Филипповцы же на сии доказательствы не взирают, и самочинно сотворяют.
2-е. У филипповых християн при Начале каждыя молитвы замолитвуют с неприличным поклоном, понеже сей поклон не ко иконам относится, но к тому кто читать благословляется [Отеческая степень, лист 68 об.; Рукопись отца Е. Г.]. Сего поклона во уставех церковных, и служебницех, такожде и в потребницех, при Началех иерейских и простолюдинских, не указует. А потому и есть противно нам простым и не священным людем священническаго Начала к службе: «Благословен Бог наш» не повелено глаголати, но вместо онаго: «За молитв святых отец наших», поклона же зде не указует, но точию повелено ограждати себя крестным знамением, по реченному: «Им же знаменаем себя вернии на всяком начале молитв наших, яже к Богу» [Книга преп. Максима Грека, слово 40]. И паки: «Всякий християнин ко всякому делу приступая, прежде от знамения святаго креста да творит начало» [4-я книга Дамаскина, глава 124-я книга Дамаскина, глава 12]. «Без него убо ничто же начинай, вся уды своя (рече) животворящим крестом утверди, и не приступит к тебе зло» [Книга Ефрема Сирина, слово 102]. Сим священным свидетельством, и мы согласуясь при замолитвовании точию крестным знамением ограждаемся, а поклона не творим, якоже филипповцы зде поклон не по уставу полагают, и онаго прещения, на прилагающих или отъемлющих что от предания, не внимают [Евангелие Толковое, в неделю 1-ю Вел. поста].
3-е. Такожде и в Начале полунощницы от недоумения или от грубости противятся всероссийским священным патриархом. Ибо оныя на молитве Макариевой, три поклона полагати повелевают, а филипповцы, на «слава Тебе Боже наш», те поклоны полагают [Часослов Иосифовский, глава 5, лист 50].
4-е. Еще же филипповцы зело не добре содевают; яко Богу истинному животворящему Духу Святому, повсегдашняго поклона не сотворяют. Но святое писание повелевает: «Сим же единем поклонением и единою славою, прославляти и почитати и Духа Святаго, коим же поклоном и славою прославляем, Отца и Сына» [Катехизис Большой, лист 114]. Сопротивныя же филипповцы, якоже и поповцы, самомнительный извет творят, что в Часословех не указано сего поклона. Мы же к таковым рцем: яко аще и не указуют, но и не запрещают. Обаче во (поклонех) християнех удержася обычай, на сей стих поклон всегда полагати, утверждаяся о том: яко во уставе Большем, на произведение Монастырских служебников, пишет: на «царю небесный» поклон един [Устав Большой, глава 55, лист 100 об.]. И сице бывает аще в неделю, аще в прочия дни седмицы, аще в пост или кроме онаго. От сего крепко уверяются, непременно должно быть, на «царю небесный», всегда поклону.
5-е. Такожде на полунощнице, и на павечернице на корпении вместо «ослаби остави», нецыи филипповцы повелевают глаголати священническо, «прости мя отче..» и прочая. Но святый митрополит Фотий, и повсюду священное писание, тако сказует: «Простым людем священническаго ничтоже творити, ни Начала, «благословен Бог», ни прощения иерейскаго, но глаголати простым прощение, якоже указася во псалтырех со возследованием, в чине двунадесяти псалмов, и в Часословех Острожской печати, во осмуху». И в Обиходнице старописменном, в светлую седмицу, именно велит глаголати «ослаби остави». Филипповцы же не ведая сего сопротивная глаголют и творят, нечто странно и безчинно. По корпении абие скорый некий поклон еще полагают до земли, коего нигде ни в церковных, ниже в келейных уставех ни показует. И сие есть явное приложение и безчиние, коего по святым правилом подлежит запрещению [Кормчая, лист 274, о посл. Кириловом]. Яко же сказует: «не храняй чин соборныя и апостольския церкви, да будет анафема» [Никон Черногорский, слово 19]. К сему же и другое есть безчиние и необычное действие, еже на молитве «ненавидящих и обидящих» полагают точию четыре поклона, а не седмь, якоже повсюду обдержный обычай имеет церковь. И четыре оныя поклона творят некако странно, сиречь, на конце 1-го стиха поклон един, а еще на самом конце молитвы, на последнем стисе три поклона. О сих поклонех, колико их на оной молитве, и на коих стисех полагать, аще и несть писаннаго, но обаче повсюду християны имеют обдержный обычай, еже седмь поклон полагати, а в праздники, за исключением покойнаго, шесть. Но обаче святое писание повелевает: «Аще на кую вещь правильнаго повеления и уподобительна не обретается; советом многих да укрепится, а не храняяй тая, яко безчествуя святых отец, не без муки будет, зане и в древле многая имать церковь и не писанная в себе» [Сирах. г. 8, ст.11; Тактикон, слово 9; Апостол Толковый, лист 894; Кормчая, в предислов., лист 24 об.].
6-е. Еще у филипповых имеется немалое прегрешение, еже уставных повелений презрение и небрежение, ибо они в праздничныя дни на вечери «блажен муж» поют не ожидая чтеца и стиха, такожде и возвахи (сказовают) непрестанно поют, тоже не ожидая чтеца со стихом. И таковое действие ни есть от древлеправославных предания, но иномнителей новых мудрование, ибо они тако сотворяют, в два или в три голоса поют и читают, но во святом писании тако сказуют о псалмех: лучше прочитать, нежели петь да пропускать. Сие безчиние и презрение святей церкви и ея уставов и положений небрежение. Таковии отлучению достойни суть и клятве, по реченному: «Проклят всяк творяй дело Божие с небрежением».
7-е. К тому же и павечерницу творят не законно и положением святых несогласно, еже прочитавше какой канон Богородицы, откладовают Начал и ужинают. Но святое писание вельми воспрещает по павечерницы ясти и пити, аще ли же кто пиет, паки павечерницу да молится. Но ниже глаголати по отпущении павечерни подобает друг с другом, но с молением исходити [Устав Большой, лист 61].
8-е. Еще же не правильно творят на воскресной утрени, по непорочных, на «славу», в тропарех вместо единаго поклона филипповы, в подражание новых греков, творят три поклона. О сем пишет в книге Проскомитарий Арсений Суханов, бывший во Иеросалиме, в лето 7153, в последних годах патриарха Иосифа, когда уже в Греции православие до конца истощилось, яко же описовал Суханов, что греки не крестят в три погружения, но обливают и покропляют, и крестятся не двумя, но тремя персты, и крестов телесных не носят на себе, и прочая тамо пространно [Церковная история, 9, Сисоева, лист 4 об.]. И сие того ради написахом, яко филипповы християны, как сии поклоны, такожде и иная многая не по уставу сотворяют, и не ведают яко еретиком подражают.
9-е. К тому же нелепый, даже писанию несогласный, имеют обычай, егда чтут на службе евангелие, необычно творят, прежде скажут от кого евангелие, потом и благословляются к чтению онаго. Но по обычаю християнскому, и по сказанию святаго писания, на каждое дело прежде должно прияти благословение, потом творити оное.
10-е. Еще же имеется у них прочитание канонов на молебнах и на прочих службах великое небрежение, и безчиние, егда изглаголет чтец три тропаря канона, и только лишь скажет «и ныне», абие певцы поют катавасию «спаси от бед» или ирмос, а «и ныне» тропарь Богородице читается уже под голосом пения, никем не слышим.
11-е. Такожде и на понахидах много ни по уставу творят, но некако самовымышленно. Ибо во уставех указует прежде кутию кадить, сие сесть освящение; а филипповы тогда кадят, когда поют «Блажени непорочнии». Таже в каноне, на 9 песне, нечто странно творят: по священнически настоятель глаголет: «Пресвятая Госпоже Богородице спаси нас», клирицы же поют: «Величит душа моя Господа», и потом 9-ю песнь без поклона. Сие весма странно, и християнскому уставу и обычаю сопротивно. Тако творят новейшии. И неведомо филипповы чем себя в таковом действии оправдовают. Неужели и в этом шлются на старопоморцев; но несть сего, ниже было у их когда. А потому и подлежат прещению на разоряющих уставы отеческия, паче же непременныя уставы церковныя [Соборник Большой, лист 389].
12-е. А еже о кажении святых икон и людей, нелепое и не благообразное и неуставное их действие удивляет всякаго православнаго християнина. Откуду убо имеют таковый обычай, несообразный и несогласный святоцерковным уставом, ниже во инославных таковый обычай имеется, но везде и всюду крестное воображение почитается и действуется, и во уставах повсюду повелевается еже крестообразно кадити святыя иконы и люди, и прочая вся, а не кругообразно, или подносом, якоже филипповцы от неведения творят. И еще неведомо откуду таковое повеление изобретоша, еже бы человека не кадити, но точию крест телесный, даже и женам вынимати повелевают, и якобы оный кадят [Устав филипповской о кажении крестов телесных. Отеческая степень, лист 71 об., от рукописи отца Е. Г.]. И в правду, яко человек в то время, по уставу их, должен опустя руки стоять. И покадивше крест, ко удивлению, яко кадивший крест кланиется без крестнаго знамения; если по их понятию кадит он крест, а покланяется ему без крестнаго знамения — зри невежество, и не вменилось бы им сие в богохульство и в идолопоклонение. Естьли же они скажут, мы кланяемся человеку, а не кресту, человек человеку всегда кланяется. Зде, по их разумению, кадят крест, а не человека, а потому и должно кланятися кресту, а не человеку. Сие означает неразсмотрение и крестохульство. И таковое их действие изобличается святым писанием и уставы церковными, якоже указует в субботу 5-ю акафиста: «Яко параеклисиарх с кадильницею кадит святыя иконы и всю братию по чину» [Устав Филарет.] Зде вонми разумно филипповец, яко повелевает кадити по чину. Чин же кажения во святей церкве от самых времен апостольских предан есть крестообразный, а не обводный. Нецыи же от их глаголют, яко тое крестообразное кажение есть священническое. Но зде виждь, яко и параеклисиарху тем же чином повелевает кадити святыя иконы и братию, а не кресты телесныя на братии. Зде слыши како повелено кадило приимати: егда рече с фимианом приносится оное, тогда распростерше руце свои, яко дух жизни приемлем его, и рцы молитву Исусову [Книга Сын Церковный, глава 55]. Сие бо знаменует курение благих дел, и сим образом молитва наша к Богу восходит, и о том Давыд во псалме написал: «Да ся исправится молитва моя яко фимиан пред Тобою» [Пс. 140].
13-е. И якоже кажение творят не чинно и нелепо, такожде и молебны поют необычно и не по уставу. Еже на молебне чтут три канона, то како пети катавасию, то есть «спасати» и колико поклон полагати, и где есть писано, в коих уставах, или во обдержных обычаях имеется, а яже не по писанному мудрствовати и творити, и своим изволением последовати, велию беду християном наносити, яко и еретиками именует таковых святое писание [Благовестник от Иоанна, зач. 27, лист 125]. Мы же последующе уставу церковному, и бычаю отеческому, ничтоже дерзаем кроме оных творити, якоже о прочих службах церковных, такожде и о молебне, на коем и поем точию два канона, якоже указует великий устав, сиречь, Око Церковное [Устав, печатный, лист 1035].
14-е. У филипповых не точию в чине поклонов и в службах церковных, но и во иноческом пострижении, не правильно творят: постригают не́како странно, и не чинно в дванадесять лиц, а не яко же предаде нам святая церковь: иноческое пострижение творити, яко же и крестити, с приглашением точию троичнаго состава; не боящеся клятвы положенныя от святых отец на еретиков, иже дерзнуша по своему суждению, крестити в девять лиц.
15-е. Много и других вин имеется у филипповых, в их неправильных действиях и уставах, из коих един довелось нам иметь в своих руках, и прочитавше оный, много соболезновахом, как пишущему той устав, такожде и послушающим его, понеже обои в неведении горце согрешают, ибо оный устав писан филипповским последователем. Понеже ясно показуют положенная в нем их действия, как то в Началех приходных осмый поклон, и на полунощнице, на «слава Тебе» поклоны, … [пропуск 1 листа]
… и кажение обводное и другая многая и нелепая положения онаго устава, как о службе соборней творимей по уставу, такожде и о келейной по псалтыре, от их же хотя мало, более неправильныя вины зде покажем.
1-е. Во святую и великую четыредесятницу утреню повелевает кончать «Честнейшую» с поклоны и отпуст, чего во уставе печатном не указует. Тоже и первый час, на нем же пред молитвою «Христе свете», трисвятаго не указует, тоже в противность устава, и отпуст повелено глаголати, яко же и на полунощнице, а не дню, яко же положено во уставе Великом.
2-е. Такожде и к вечерни повелевает чести Трисвятое, и прочее начало; и сие в противность уставу, ибо тамо указует во святый пост часы не кончати, но по последних поклонех «Придите поклонимся» и вечерню начинати. Такожде и на часех по «ослаби» кондаки читать указанно не чинно, первее дню и святому числовому, таже храму. Устав же печатный показует святому кондак чести после храмоваго и дневнаго.
3-е. И еще тоже не согласно уставом и обычаям християнским, положено в субботу великую на вечерни, по тропарех «Благообразный Иосиф», и прочая, Господи помилуй 40 и пять надесять поклон земных. Сие указано не по святых уставу, но как видится по своему нраву. А устав церковный повсегда повелевает вечерню кончати по тропарех, «Честнейшую», «Слава и ныне» и отпуст. Такожде и полунощницу под светлый день и в Фомино восресенье положено чести шестаго гласа, тоже не по уставу. Ибо оный повелевает в те праздники полунощницу чести перваго гласа.
4-е. Такожде и на Рожество Христово на полунощнице повелено чести тропари дневныя и заупокой. Таковаго указания во уставех церковных не обретается. Ниже от правомудрствующих християн действуется, еже бы в таковыя праздники за усопших что чести; но всяко повелено оставлять.
Таковых и подобных сим нелепостей указано много, еже о уставной службе, о их же подробну глаголати краткости ради оставляем. Рцем же несколько от того же филипповскаго устава и о келейной молитве отправляемой псалтырью и молитвами, и тамо тоже много видится недостатков, и неприличия противу обдержнаго християнскаго обычая.
Яко в праздничныя (и обычная) воскресныя дни на всей службе по указанных кафизмах не показано ни сколько молитися в сообразность устава: Воскресению, Кресту, Богородице и святому числовому. Но от наших учительных отец положено: по кафизмах, в сообразность праздника, молитися по нескольку поклон, с запевом того праздника. Еще же необычно указано, на окончании утрени глаголати «О Тебе радуется». Сего ни в коих уставах не указует, но везде повелевает на утрени глаголати «Достойно». К тому же и кафизмы в субботу на вечерни впреки устава повелено глаголати: 10-ю и 11-ю. Но по уставу церковному везде повелено в субботу вечер псалтырь начинати, от первой кафизмы. К тому же на отпусте каждыя службы, не ведомо по коему уставу, повелевается полагати поклон поясный. Еще же в неделю вечер великаго поста к павечерни противоуставно повелено приходный Начал полагать земной, а на окончании павечерни, по Трисвятом, точию четыре поклона полагати, а не седмь надесять, якоже повелевают уставы. И иная многая необычная и неприличная имеются во уставех и обрядех филипповских, о их же несть ныне глаголати подробну.
Сия же вкратце воспомянухом, не яко уничижающе и осуждающе християн, понеже по апостольскому гласу: «Господеви своему стоят или падают, силен бо есть Господь восставити их» [Апостол зач. ?]. Но собственно того ради, да не хвалятся хвалящиися филипповцы, о уставах, о обрядах и действиях своих, яко незаконны и противууставны суть, о их же выше отчасти пояснихом, еже есть: о неуставных поклонех на отпусте Начала, и при замолитствовании, о измене поклон при Начале полунощнице, о отмене поклона «Царю небесный», о корпении необычном, о пении в два голоса, о ужине по павечерни, о неправильном благословении к чтению Евангелия, о небрежном чтении при богослужении, о неправильном кажении кутии, о противозаконном кажении святых икон и людей, о молебнах триеканонных, о неправильном иноческом пострижении, и о неправильности устава Богослужебнаго. И се яве показует, якоже рече некто от учительных людей [Отеческая степень, лист 72; от рукописи отца Е. Г.]: «что нынешния филипповцы поморский чин и устав потеряли, и вси разстроились, кто как знает тако и творит», сиречь, самочинно. И сие их самочиние тем является, яко между собой во многом разглашаются, и нецыи тако неразумне оправдаются, что ныне уже не до чинов и уставов, да к тому же оное уставное указание не догматическое предание, и мним яко за некая разногласия не будет прегрешения. А сего беднии не ведят: яко мнози в первобытной церкви, не о богословии и догматех, но в преданиях и обрядех церковных погрешившии, к еретиком причтошася. Не яко вине той весма велицей суще, но яко в самомнении оном утвердишася и положениям отеческим не повинушася, но в своем нечестии пребываху, а православномудрствующих зазираху и укоряху [Севаст Арменопольский, книга 9; Никон Черногорский, слово 2, 52, 57].
Тако и от филипповых нецыи от неразумия и величания надъимаются и над феодосеевыми превознашаются и вельми собою похваляются. Но не постави им Господи греха сего, понеже мнози от их и сами не ведят что говорят. О сем всяк благоразумный может от вышеизложенных доказательств познать у кого более правдивыя уставы стоят. Ибо мы довольно изрекохом, и паки речем, что у нас о обычаях и уставех церковных несравнительно справедливей противу филипповых. Понеже мы оныя приняли от предков и отец наших, еже о уставех и обычаях таковое разсуждение: «Первоначально усматриваем о всем том в книгах и уставах патриарших печатных, и тому последуем, естьли же чего в тех книгах и уставах не обрящем, то уже прибегаем к книгам и уставам монастырским, таковы суть: Сергиев, Соловецкой, Кирилов, и прочии. И что нужно в них изысковаем, и кроме всякаго сомнения оным последуем так же как и печатным Патриаршим. Таков есть у нас о сем обычай, и мним, что нет в том никакой противности и сомнения» [Ответ 1-й, М. И. Стукачева к филипповым].
И сия изрекше ко окончанию тщимся, смиренно и умиленно взываем:
«О богособранная чета православия, в божественных догматех пребывающая, за скудость несмысльства и недоумения нашего или нерадения, елико что обрящете неисправно и несовершенно в разуме в книжице сей, молим мы трудившиися: молите, а не клените, паче же и прощению сподобите. Да милостивый Господь Исус Христос праведный судия, отдаст нам молитв ради прочитающих вас книжецу сию, иже в неведении что не исправльше. Понеже забвение и неразумие надо всеми хвалится. Вас же милости своея да не лишит, и дни ваша в тишине и покои да препроводит. Паче же и царствия небеснаго сподобит во оный будущий век. Ему же слава со Отцем и со Святым Духом, ныне и присно и во веки веком. Аминь [Устав Иоасафа патриарха, лист 1179 об.]».
Начата бысть собиратися книжица сия,
в лето от сотворения мира 7386-е [1878],
сентября, в 1-й день.
Приведена же ко окончанию того же года,
месяца марта в 30-й день.
Ответы выговцев И. Ковылину
Выговское сочинение
Конец XVIII столетия
Ответы выговцев на зазрения Ильи Ковылина
Страха же ради не убойтеся ниже смущайтеся Господа же Бога святите в сердцах ваших готовы присно ко ответу всякому вопрошающему вы слово о вашем уповании и кротостию и страхом совесть имуще благу.(1 Пет. Зач. 60)
Время всякой вещи время терпения, время ответа. (Книга о вере, лист 2, печать московская)
Проповеди ради благочестия точию да будет ти брань. (Златоуст, ко ефесеом, беседа 19, лист 1761)
Иже есть от Бога, глагол Божиих послушает. (Иоан. глава 8)
Изъявление вещи
Потреба на нужнейшая влечет ны грубыя изъявити, а молчанием не лет есть покрыти, о несогласующеи с нами и со отцы нашими братии федосеева мнения.
Понеже прежде приезжавший к нам во общежительство знатный в них учитель Игнатий Трофимов с товарищи и по мнозей беседе мир утвердивше чтоб не разглашатися с поморцы, си есть с нашею страною; о чесом и письмо примирительное отцы нашими, по их прошению писанное и им данное свидетельствует не ложно. А ныне возновляет древнюю ту распрю по самомнимой своей ревности, новый в них ревнитель зовомый Илья Алексеев, древнее несогласие с нами и со отцы нашими аки удачю некую изъявляя сущим раздор, и не согласие, ии к чесому годное.
А, первое: О пилатове написании четырьмя литерами писанное еже есть I Н Ц I. Си есть Исус Назарянин, Царь Иудейский, согласное латином, люторам и калвином, и Никона патриарха написанному о чесом книжица его в Крестном монастыре или Ставрове изданная и напечатанная явствует.
В, второе: Против мнению их о титулах за начальствующия в молении, в местех потребных творимое нами, и именуемое благочестивыми, благоверными и подобными, яко же святии отцы именословивше не погрешиша, честь надлежную честным воздавающе, о чесом в нижеследующих по нам доказаниях явлено будет.
Г, третие: Всероссийстии христиане, во время новотворства Никона патриарха, и прочих по нем ревнующих не приемлюще новин, то есть триперстнаго благословения, четверогубой аллилуйя, и прочих новостей, и от насильнаго принуждения к таковым убегающе душевные гибели многия беды подъяша, ови муками, и томленьми, и казньми смертными от немогающеся избывше умроша, овы же изгнанием и темницами и заточением в страны горкую смерть приимше, убегше лютости нечестия умроша. Друзии же собирающеся во едино место от несносныя и горкия тесноты с женами и детьми, и в домех своих, и в древних церквах старого строения от насильства лютости всенародно огнем скончевахуся во очию многих народов зрящих геенскаго огня с никоновым нечестием убегающе на иный мир странно и ужасно преселишася; которая их благая о древнем благочестии и Богу угодная ревность, и написанием правым древним согласная, вашим согласием и новоревнивым Илиею зазирается и порицается, весьма неразсмотрительно и многому зазору достойно.
Заключение
Сих ради грубии мы, и старостию и хворостию одолеваеми, понудихомся надсилу, защищающе и оправдающе непогрешимое отец наших устройство, и со святою древлеправославною церковью согласное.
Аще [еже ли] о Пилатове написании на кресте, еже есть Исус Назарянин, Царь Иудейскии, но, напротив, святоотечески Исус Христос, Сын Божии, по писанию, и Царь Славы, и прочая боголепная и высокая согласная Церкви подписуем и веруем дóлжна быти.
Аще начальствующия персоны или лица согласно со святыми Божиими угодники честными титулами и пишуще и глашающе то есть: яко от Бога данные власти, и святыми отцы почитаемыя и молимся по апостолу Павлу о них всегда, яко долг неотрочныи воздавающи Церкви силам, яко да тихое и безмолвное житие поживем, по апостолу Павлу.
Аще ли ревностно и благочестно скончавшияся в прешедшия времена за древнее благочестие теснимы гонительными образы [виды], згоревшия ли водным ли истоплением и прочими неначаянную себе смерть сотворшая, яко мученики веруем не укорны и о нас и о всем мире молитвенники непостыдны быть чаем и исповедуем.
А о прочих вашем мнении, его же чрез совестно мнится нам умножил еси написав, оставляем умным читателем и слышателем в разсуждение, однако кратким ответом извинившеся, да не вменимся безответни быти пред вами.
Тем же убегающе излишних трудов, и чину ответному, по нам согласующе пишем извинившеся: обычною краткостию приличныи приступе ко ответу творим Божией помощи смиренныи сей труд наш, вручаем и молим поспешествовати, и в прочих и не оставленным быти и прочая.
1772. Месяца генваря в последних числех: подадеся нам грубым писмо [или задание] в 16 пунктах соуруженное от феодосиева согласия, бывшаго у нас, во общежительстве именем Ильи Алексиева с товарищи оставшагося в них от мороваго поветрия.
Первый пункт, о написании Пилатове, положенном на Кресте Христове, в четырех литерах изображенное, I Н Ц I, си есть Исус Назарянин, Царь Иудейскии. Таково написание разумеют и утверждают за важное и непременное начертание. И мнят [любопрятся] яко бы на славу и честь оное распятому Сыну Божию написанное.
Вторый пункт, яко напротив мнению их, начальствующия лица отитлуются благоверными крестоносными, православными, христолюбивыми и благочестивыми нарицаются.
Третий пункт, яко бы мы, во время иеромонаха Неофита разглагольства и камисии, отреклися, яко сами не покрещены, и других не покрещеваем.
Четвертый пункт, умерших поминаем, псалтыри говорим по них не право сие.
Пятыи пункт, за живых не крещеных молебны поем, яко да неприлично есть.
Шестыи пункт, масло древяное в лампадах жжете и свещи от некрещеных приемлете.
Седмыи пункт, совокупльшияся по крещении блудническими мните [нарицаете].
Осмыи пункт, по крещении на третии день о прежних грехах исповедь чините, а не прежде.
Девятыи пункт, пред крещением не повелевается вами четыредесяти дней постится, и не постятся.
Десятыи пункт, с мирскими пиют, и ядят, а настоятели не истязуют, ни исправляют и за пиянство не пользуют как надлежно.
Первонадесятыи пункт, с новоженами общение имеют.
Второнадесятыи пункт, в баню с мирскими ходят и не возбраняются от главных старшин.
Тринадесятыи пункт, тропари и кондаки за умерших некрещеных, сочинивше, говорят.
Четверонадесятыи пункт, самосожегшихся и самоубившихся за мучеников причитаете и страдальцев законных вменяете, яко бы за веру умроша.
Пятонадесятыи пункт, книгу во оправдание прилагателнаго имене счинивше, да отложат и отложити дóлжна есть.
Шестонадесятыи пункт, сами между собою имеющее посредство си есть несоглашение, и разсмотревше, десному и лучшему да уступят.
Дозде пункты конец имеют.
Отсловие [уговоры] на вышеписанная.
Сицевое Ильи Алексиева и товарищев его мнимое витийство и смелость непохвалная: прежде сражения сама от себе снизитися [уклонитися] хощет, яко же от нашей страны справедливым ответом и доводы непогрешимыми и молитвами отец и братии, наипаче помощию Божиею, грубая по нам контроверьсия [се есть] любопрение благосчастливо и богоспособно совершитися возъимать: юже честному читателеви или слышателю усердному случится видети, или слышати. Да чтет и разсуждает разумно [десно] чувствующи полезная.
Дозде отсловие или уговор, по силе мысли нашея потребныи есть.
Первыи пункт Илиина зазрения
Несогласно святым богословцем о надписании Пилатове, положенном на первообразном Кресте, по писму старца Игнатия, яко бы оное писание не на славление Сыну Божию, но на безчестие.
Ответ, А.
Копию или выписку от слова надгробнаго трудов отца Андрея Денисьевича еклисиарху Петру, си есть уставщику и сроднику, ему же начало: кто есть человек иже поживет не узрит смерти (Псалом 88), о вышепомянутом вами иноце Игнатии во свидетельство предлагаем вам, да познаете откуду и когда, и каков, и колик бе блаженныи он старец и велеумныи подвижник, и сущии раб Христов: а вашим согласием уничтожаемыи давными времены, отец Игнатии.
[копия] Егда бо древле соловецтии отцы не приимаху новых уставов Никона патриарха: древлесодержания церковнаго, ни мало уступити дерзаху, бяху же в них тогда мужи честнии и святии, от многолетных подвигох постных просвещени, и разумом Божественнаго писания озарени: в них же два прочих превосходяща в премудрости и разуме, и во всем ведении священных писании.
Един [инок] Герасим Фирсов, именовашеся, его же премудрость и разум каков бяше, является от списания его, еже писа о знаменовании [честнаго] креста на лицах своих.
Вторыи же [инок] черныи диакон Игнатии [ныне нами повествуемыи] муж святолепен и подвижник велии, и Божественнаго писания читатель, и внешняго наказания искусный [искусен].
Бяху же тогда в соловецтей обители мнози отцы, святоподвижнаго их ради жития, прозорливым даром знамении и чудесы облагодатьствовани.
У них же бе некии отец Гурии, имянуемыи аки благоуродствуя пребываше, многая прорицания тогда предвещаше: егда еще Никон митрополитом бывыи, по мощи святаго Филиппа посылаем бяше, тогда той святыи старец, приезд его и яже об нем прежде прорече: и ина многа памяти достойна глаголаху отцы, той прорицаше: молитвеник бо велии и постник бяше многолетен, и чистоты ради умныя предвидяше дальная, яко близ сущая.
Той великии отец часто, помяновенному Игнатию отцу, повелеваше изыти из обители соловецкия: Бог тебе [глаголя] повелевает отсюду изъити, чесо ради стужившу отцу Игнатию, и некогда молящу святаго сего старца: почто убо, о святче Божии, аки мя непотребнаго уда от обещания своего, от обители преподобных изгоняеши. Святыи же той старец: иди иди Игнатие [рече], не имея сумнения, хощет бо Бог состроити тобою велию обитель в славу его: обители же соловецкой разорение предрече, яже пóслежде зельным страданием древлесоловетсии отцы за древнее благочестие скончани быша.
Помяновенныи же отец Игнатии изъиди из соловецкия обители по глаголу святаго старца и по благословению отец и Богом подвизаем. Прииде в сия поморския пустыни пребываше близ Повенца, отечества помяновеннаго Петра, и часто в дом родителей его прихождаше, яко же и прочии отцы соловецкия и благословения сподоблевахуся. Пребываше же сей отец Игнатии во многих вышеестественных подвизех: и в вышепомяновенной Курженской обители священноигуменом Досифеем и прочими отцы схождашеся, и единоумно о благочестии усердствоваху. Бе бо добродетелнаго ради жития и премудрости всеми знаем, именит; еще же живыи в пустыни сей чистоты ради его сердечныя и безстрастнаго жития прозорливыи дар от Бога имеяше. Иже видяхуся добродетелна быти, их же провиде он последи отпасти благодатнаго жития, предрече о них: иным наказанным быти за прегрешения объяви: другия, зело ревнители являющеся, от очию своею отгна, преступники быти предсказа. Вся же сия по предречению отца сего збывахуся.
Многи же сей отец священныи просвети, учением научи, благоверию наказа, добродетелем на подвиг возстави. Чесого ради мнози прицепившеся к нему и моляху его с ним пребывати, и предводителством его спасенными быти: еже и сотвори боголюбная óна душа, памятуя проречения и повеление святаго старца соловецкаго Гурия, и нача в сей пустыни общее житие.
Не токмо по благословению отец соловецких, но и благословением помяновеннаго игумена Досифея, бяше бо ему отец духовныи, иже повеле ему женеск пол особь в пустыни от братии отстраивати и велиим опаством целомудренное наблюдати житие: иже и велиим опаством по священным писанием общежителнии же и целомудрении уставы предводительствоваша.
Сему отцу ученик и сообщник бывает кроткии, аще ин кто таков Даниил, благословением священнаго отца игумена Досифея, бяше бо ему сын духовныи, и стаинник благочестия: моляшу же Даниил сего священнаго игумена, да благословит и научит у какова искусна отца в наказании быти. Священная же óна глава, аки Богом воздвизаем: иди, рече, и в ваших поморских странах пребывающа соловецкаго старца Игнатия послушай, сей бо мощен тя наставити на путь спасения: еже и сотвори Даниил, бысть ему сын и сообщник общежительства его. И несколько время терпяше с ним и братиею многи скорби пустынныя, и гонительныя волнения.
По сих же отцу Игнатию многи души во благочестии и добродетелех научившу, и направившу и скончавшуся о Христе. Оставлец же онаго общежительства Даниил смиренныи, скитаяся по пустыни с некоими братиею, место от места пременяя, многаго ради тогда гонителнаго волнения, и многое попечение имеяше, аки некии велии долг, да общежительное обещание, по благословению отец, во общежителных святых уставех исполнит.
Бяше тогда в пустыни сей, живя священныи отец, предревнии великии подвижник, авва Корнилии староскитскии, Ниловы пустыни древлеобщник, знаемыи еще древле бяше и любим, добродетельнаго ради жития, святейшему патриарху Филарету и несколько время у него жил бяше. Той, аки ангел некии, в вышеестественных подвизех просвещаше пустынная сия недра, и всем нам отец духовныи и сладостныи наказатель бяше, Даниилу же и поминаемому нами Петру.
Бяху же инии отцы древлесоловетьстии: отец Генадии Качалов по роду именуемыи: Иосиф Сухой, соловецкии же: и ины отцы и пустынножители, с малою дружиною живуще, молитвами своими дебри сия освящающа.
Даниил же в малом общежительстве живя: древлесоловецких отец благословение, аки благовонное миро во алавастре нося и соблюдая: усердствуя же он о общежительстве, возусердствоваша же и прочая братия: возревноваху же и отцы благословляюще и повелевающе о нем пещися: яко же и нас с приснопамятным Петром: моленьми отеческими благословении, советовав принужденми принудиша общежителнаго не жития точию, но и попечения и тяготы его вкусити.
Разсуждающе бо тое тогда: да обдержанием общежительства в пустыни сей благочинное житие утвердится, всякое безчиние изничтожится: и да не попустится своеволным злым людем место пустынное жительство быти, яко же и бысть.
Ибо тогда воровских людей терьние в лесах сих вкоренятися наченьшеся, благодатию Христовою, обдержанием общежительства сего изничтожися: и мирно и благопокорно, и ведомо житие се, тако церковному величеству, яко властем градодержателем, общежительством сим исходатайствовася. Яве бо по Христовым и апостольским преданиям, повелевающим Бога боятися и царя почитати: и Божия Богови и Кесарю Кесарево отдати.
Сия вся Богу помогающу благое от Божиих писании и благопокорное разсуждение общежительство сие источает.
И тако сие общежительство, якоже рехом, от соловецкия обители произшедшее, есть чином же и благословением соловецких отец вкорененное, и священноигумена Досифея благословением насажденное: к сим же и староскитскаго отца Корнилия, и прочих отец пустынных молитвами и благословением утверженное. Исперва место из места пременяя гонителных ради случаев бяше, со священным отцом Игнатием близ пурнозерских езер, прежде водворяшеся. Пренесжеся на Саро езеро, идеже после отца Игнатия соблюдашеся: по сих близ Боровскаго скита, при малом езерке крыяшеся: идеже мы, благодатию Божиею, совокупихомся и живяхом, по благословению священнаго отца Корнилия и прочих пустынных, и соловецких отец, Генадия и Иосифа.
Таже, Богу изволившу, преселихомся к Выгу реце, идеже не токмо древнейшии отцы, Корнилии и Виталии благословением и присещением многажды нам присудьствоваху: но и соловецкия обитатели священник Пафнутии и пустынножителныи старец поживе во общежительстве лет седмь, всерадостно благословяше устав общежительства и церковныя службы: и возвещая вся благочестивыя уставы же и обычаи соловецкаго монастыря и сладостно прилагашеся сего общежительства уставу же. К сим же и древнии старыи священник Феодосии, страдавыи многолетно за благоверие, той прилучися во общежительстве быти, усердно похваляя и благословляя чины вся и Бога благодарствуя о уставе общежительства, сего и сам желаше сообщежитель и служитель быти.
Сице убо сие общежительство от пустынных и освященных отец первозачатием проистекшее толиких и таковых священных мужей, благословением строительствовано бяше, его же еклисиарх и строитель и многоусердныи пользователь бяше поминаемыи раб Божии Петр.
Дозде копия из писма отец наших.
Сицевым вышеписанным свидетельством и труды велеумными отца нашего Андрея Денисьевича предложихом вашему усердию, да познаете известно, яко не таков бе блаженныи он, старец Игнатии, яко же Вам и всему вашему согласию возмнеся о нем и многими неприличными поношеньми и укоризнами всем вашим согласием давными времены поносите, хотех рещи грешите [погрешаете] о нем: не бояшеся праведнаго суда Божия и до празднаго словесе опасно ны истязати хотящаго.
И оныи Игнатии, о нем же ныне нам есть слово, и житием свят и словом от священных писании обогащен вельми: и со святою кафолическою церковию во всем согласная мудрствующе, яко же и в посредствующей убо с вами вещи. Вы уже вси от давних времен уставляете новомудрствующе, не токмо Пилату, яко язычнику, согласная пишуще на кресте четыре литеры сия [I Н Ц I], знаменующия Исус Назарянин, Царь Иудейский: но и латином, и лютером [лютераном], и кальвином, и никоновых времен новонаставшему согласному вышеозначенным подписанию.
Но Церковь древлеправославная грекороссийская и апостольская гласит боголепными написании, еже есть Царь Славы, Исус Христос, Ника: всеми старопечатными книгами, разных выходов: а имянно, святым Евангелием разных печатей [разныя выходы]: потребниками великими, уставами на панагиарном хлебе: к сим согласно и белорусския печати во многих разных книгах гласит, аки гласом вопиюще еже есть Царь Славы, Исус Христос, Ника; к тому же чюдотворными кресты старогреческим корсуньским, его же князь Владимир из грек принесе: и жезлом святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова данным самем евангелистом чюдотворному отцу Авраамию Ростовскому нигде вместо Царя Славы Исусом Назарянином гласит: видно [заведомо] опасаяся, да не проста человека покажет Божия Слова, таков титул, а по вам, мнимую богословию, еже Назарянином нарицати Спаса Христа и мнети не грешити: и бесовскии отчаяныи род вопиет тоже: не могут бо инако рещи Господа нашего Исуса Христа, точию Исуса Назарянина: чти аще хощеши о сем в житии преподобнаго Нифонта, декабря 23 дне, известно ти будет грамотниче честныи: и прочим вашего согласия и мнения, ревнителем:
Еще: из благовестника, Лука, зач. 110, предлагаем ти: Пилат же вопроси [Исуса] Его глаголя: Ты ли еси царь иудейскии. Он же отвещав рече ему ты глаголеши.
От толкования. Тем же и Пилат оставль клевету исповедает, яко никоея же вины обретаю в человеце сем: мню же и се вопрошение еже творит ко Христу, на посмех, клевете быти, укоряяй бо рече глаголя, ты ли еси царь жидовск. Токмо не се глаголя, ты убо нищь, худ, безпомощи оклеветаем, и яко царства хотя, се бо посмехающагося есть, яко таковая вадати {вадьба-клевета, Ц.-С. слов.}на Исуса: яко таков худ, наг, такову вещь начинати. НИЖЕ
Евангелие. Пилат же [ниже] посла [Исуса] Его ко Ироду, сущу и тому во Иеросалиме в тыя дни.
От толкования. Ирод же рад бысть о том, не яко хотя обрести что душе полезная от видения Исусова, но зане слышаше о Нем, яко мудр есть и чюдотворец. Имяше же неразумно желание, токмо видети что и слышати, а не веровати. Не такожде ли и ныне мнози болим и неразумеем тем, яко на позорищах хотяще видети чюдо действующих змии, пожирающе в мечте и мечи и ина таковая, зело мняше Исуса от тех: и вопрошаше Его словесы мирными, паче же укоряя и тем и Господь ничтоже отвеща, весть бо когда лепо отвещати, иже вся Словом сотворивыи и свидетельствован от Давыда, яко разсмотрив словеса своя на суд, что же требе метати бисеры пред свиниями. НИЖЕ: И се человеколюбие есть, еже молчати в таковых, реченное бо слово на ползу осуждению ходатай есть невнимающих. НИЖЕ. Ты же ми разумей всюду еже творит научаем диаволом. НИЖЕ. Беста себе друга Пилат же и Ирод. Подлежащее бо Ироду посла Пилат к нему, начало дружбы являя, яко не приступающу Пилату во Иродов предел. Виждь же зде, иже враждою растоящияся совокупляти диаволу, да токмо Христу устроить смерть, и единотрапезники собирающия враги в любовь.
Дозде из благовестника о Пилате и Ироде.
Внемли честныи Илие, о вышеглашаемых о Пилате словесех, яко диаволом со Иродом водими единотрапезники бывше и яко же слово вышеписанное гласит: их же лепо ум имущим гнушатися и ненавидети, по гласу псаломскому: не навидящыя ли Тя, Господи, возненавидех их и во враги быша ми. Псалом 138 (21стрф).
Еще о Пилате воспомнити лепо есть от святаго Феофилакта: Матф. Гл. 27. [Благовестник] печатной:
Евангелие Матф., зач. 111 Видев же Пилат яко ничто же успевает, но паче молва бывает, прием воду, умы руце пред народом глаголя: неповинен есмь от крове праведника сего, вы узрите: и отвещавше вси людие, реша, кровь его на нас и на чадех, наших. Тогда отпусти им Варавву, Исуса же бив, предаде им, да распнут его.
Толкование. Умывает же си Пилат руки, являя себе яко чиста, злоразумно мудрствуя: праведна бо нарицая Исуса, предаде его убийцам или жидовом погодие {сообразно} творя или являя, яко и той осуди его и не хотят неповинна человека распяти, но поругана и осужденна.
От Марка, гл. 15, зач. 66 Пилат же хотя народу хотение сотворити: пусти им Варавву и предаде Исуса бив его.
Толкование. Виждь же иудейско убийство, и Пилатову кротость, аще и той осуждения есть достойне. Но зане не усердно о добрем противися. НИЖЕ. Конец вдася воли онех, биша же Господа плетенным ремением, да мнят яко от судии его осуждена пояша и предаде им, да его пропнут, хоте бо доволно народу угодити, а не Богу, яко Пилат, предатель и биица Христов познавается и есть, по евангелисту; Исуса убо бив [рече] предаде им [си есть жидовом], да пропнут его.
Не глаголи ты Илие, и еще не внял еси угождения Пилатова к жидовом на Спаса же нашего, посяжки и навета, сего ради поне вкратце от песней церковных покажем ти егово злодейство на Христа бывшее и уведев негли престанеши хвалитися о нем, познав того злодейство.
О Пилате треодь цветная во святую и великую среду на утрени:
Се лукавыи совет воистину собрася враждебне, яко осужена осудити, иже в вышних седящаго, и яко судию всех и Господа. Ныне собирается с Пилатом, Ирод и Анна вкупе и Каиафа, истязати единаго долготерпеливаго. (Сед., глас а, лист 70, на обор.)
Во святыи великии пяток. Антифон. 13: глас 6:
Соборище иудейское, у Пилата испросиша распяти Тя Господи: и вины убо в тебе не обретоша, повиннаго же Варавву свободиша и тя праведнаго осудиша, и пагубнаго убийства грех наследоваша: но даждь им, Господи, по делом их, яко суетным на Тя поучишася.
В суботу великую канон на боготелесное погребение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. (Творение Симеона Логофета. Песнь а, слава):
Хотящи Мати приступи в тайне к таящемутися ученику Иосифу, и тайно плачущи моляшеся пречистое испросити тело Твое у Пилата, беззаконнаго судии.
В святыи великии пяток. Синоксарь, лист 114:
Пилат же июдеом благодатьствуя, бив Исуса, преже изводит с воины, во одеяние оболчена червлено, терновным же венцем обложена, и в десницу ему трость вложив: ругаем же от войн глаголющих, радуйся царю июдейскии. НИЖЕ. О часе же третием дни на лобнем месте бивше и тамо распинают его. НИЖЕ. Всякой убо досаде на нем исполньшися: Пилат дщицу написа о нем глаголя: Исус Назарянин, Царь Июдеом, аще и они возбраняху, не пиши, сице глаголюще, но тако Он сице рече: Пилат же отвеща: Еже писах писах, паки отрече {приговор}.
От гранографа царства Тиверия Римскаго: глава 83. О Пилате и прочих явствует:
Кесарь слышав сия, и почюдися: уведев же, яко Антипа советен бысть на смерть Христову: и Иоанна Предтечю беззаконнаго, ради прелюбодеяния усекну, посла приведе его в Рим связана со Иродиадою, отъем имение их, а самех посла в заточение во Испанию: и тамо живот зле скончаша: плясавшую же отроковицу, земля пожре живу. К сему Тиверию тече в Рим Мария Магдалыня, вопиющи на восставшая, на Христа, на Пилата и на архиерея Анну: и Каиафу, их же Тиверии зле умучи. Пилат же от великия нужды сам себе закла. Дозде из гранографа.
Псалтырь толковая киевскаго переводу. Псалом 2:
Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным предсташа царие земстии. и князи собрашася вкупе, на Господа и на Христа Его.
Афонасия Великаго:
Еже есть вскую, язык иудейск яро гневахуся и скрежетаху на Христа, поучающеся о смерти его и бысть им вотще предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его: Ирод и Пилат, тии бо на Христа воссташа, и на Господа, и на Господьскаго человека: Бог бо и человек есть Христос.
Григория Амиритскаго:
Собрашажеся на Господа, аки на Сына человеческаго: Он же по истинне Бог и человек бе.
Сущее. Живыи на небесах посмеется [им] и Господь поругается им.
Толкование. Пригвожденныи бо ими и смерти преданныи на небесех сыи и все одержаще: сия являет их. И Отец же Его и всех Владыка достойную им месть подаде. Инаго, Бог Господь живыи на небеси: преда род жидовск, не верующим в Бога нашего Исуса Христа, в посмеяние и поругание разверзши совет их, и месть наня послав. Что же и бысть: понеже Ирод и Пилат, быша изгнани, Пилат в Тукгдуне граде сам ся уби: Ирод же, нечестивою смертию умре, июдеи же по всей вселенней разсеяшася. Дозде о Пилате.
Увещание
Ужели ты, друже, поне вмале узрел еси недостаток в Пилате, на мнозем творим на Спасе Христе, или: еще в уме твоем вращается [корпит] нечто, не буди, друже, невероятен к предложенным нами: сама: убо тебе святая церковь, неложными доводами увещевает твою совесть послушати от нашея страны представляемых на мнозе о Пилате и о суетном Ироде поучишабося суетным: и да уверит тя конец жизни их: и смерть погибельная, вышепоказанным свидетельствы, ащели по нам не умягчится совесть твоя, приложити имамы еще доводы силнейшия, от них же останешися в зазоре, познавая свое старание [устойство] безсилное.
Евангелие в неделю мироносиц; лист 122 и 123, печать московская, при Филарете патриарсе 7140 г. О блаженнем Иосифе и злонравнем и жестоцем душею Пилате:
Блаженныи же Иосиф, един от совещания июдейскаго зело нарочит и богат. НИЖЕ. Прииде к Пилату. НИЖЕ. Испроси погребсти тело Исусово. НИЖЕ. Божественная бо сила споспешествоваше Иосифу, и Пилату злонравную и жестокую душу умягчаваше. И приим тело Иосиф, купи плащаницу, и сняв Его со древа и обвив и плащаницею, и с Никодимом купно. НИЖЕ. Честное и пречистое тело Владычнее, честно и благоговейно и со страхом погребают. Дозде из евангелия.
Еще о той же двойце слыши аще несть внятно слышати случилося тебе о блаженнем и приснопамятном Иосифе: и о беззаконном судии иже есть Пилате: како: и российстии пастыри согласно древним разсуждают о нем, ценят егову злобу и не грешат:
Приближися Иосиф к горко рыдающеи матери: его же видевши, и молебными тому оплеташеся глаголы, потщися рече благообразне, к Пилату, беззаконному судии, приити, испроси со креста сняти тело Учителя своего, моего же Сына и Бога. (Кирила, епископа туровскаго слово в неделю жен мироносиц, книга соборник, лист 768, печать московская)
Надсловие, 1-е,
краткое первому по нам к вам ответу со увещанием.
Сицевыми словесы отвещевающим нам грубым вкупе же и увещевающим вы: яко благоразумны: которое не без труда и потов производимое есть, ищущее желаемыя в нас ползы и мира; и ненавидимаго Богом долговременнаго раздора, между нами случившагося во утоление, и угашение. Ты же уразумев сицевая, яко благоразумен, престани пререкуя: и другим буди советник благ: яко крайному греху виновную, а наипаче всего гнева Божия на ны приити хотящаго: по глаголу Павлову к ефесеом пишемому: грядет гнев Божии и прочая.
Дозде труд наш на первыи пункт окончавше на вторыи и прочия с Богом помощником, приходим, ревность Илиину имуще, по глаголом еговым ревнуя: поревновах и прочая. (3 Царств, глава 19).
Надсловие, 2-е
Чрез неже воспоминание всему по вам согласию гласит о вышепомянутом по нам отце Игнатии, а вашем согласием не по разуму гаждаему, и злоречиму. Известно вам да будет о, друзи: о нем же притыкается из давных времен, как вы вси, и прежде вас бывшии старшины ваши: о вышепомянутом отце, иноце Игнатии, аки о камень претыкающеся хулами и браньми неприличными надходяще, да не поставит вам Господь Бог во грех грубости, хотех рещи дерзости тоя, не ведуще известно каков и колик бе блаженныи оныи отец, о нем же вкратце, от списания отца нашего Андрея Денисьевича, выше сего, вашему согласию явихом. Да познаете известно и разум и премудрость его и ревность неугасимую о древлецерковном благочестии и всей целости христианьския веры и Закона Божия и конец страдальческии.
Восплануся бо тогда, грех ради наших, аки буря зелна и прежестокии вихорь гонительныи напахну на вся верующия по старопечатным книгам, и неимуще где и куда скрытися места: ни во градех, ни в селех; всяко убо места объят тма оная гонителная. И аки воров и разбойников сущих християн православных везде искаху и вязаху без милости мучаху. И толь жестокии неугасимыи пламень диаволом разженный на правоверных вниде и во весь Олонецкии уезд, во всяком не точию селе, но и во всяком доме конечная стала бысть опасность и боязнь.
Приснопоминаемому же отцу Игнатию из таковыя нестерпимыя и ужасныя тесноты, разсуждающу с прочими ревнители како бы и коим образом гоизнути таковыя беды, вымышляет Божиим пособием и многих боголюбивых мужеска пола нарочитых и женска советом забегнути в могущее место, поне на время укрытися и спасти себе.
Заседают, самем Богом научаеми, в Палеостровскии монастырь, идеже им место ключимо, к хотящему быти за благочестие кончанию Божия судьбы готовят.
И елицех обретают союзных от старец таковых примиряют себе. Елицех же не хотящих тожде мудрствовати, тех от себе свободне их уволиша и таковым образом уселишася внутрь палеостровскаго селения, и места: и вести всюду скоро прошедшей собрася единомысленнаго народа христианска числом две тысящи и седмь сот душ. И слава об них всюду аки вода веснена пролияся.
Посылается от Олонца команда салдат, в немалом числе, с ними же и мирскаго люду, яко же сказуют до двох сот, и вящше, и вопрошаются, откуду люди и какия, и за какову вину собрашася толикии народ зде.
Они же прямыи ответ творят сице: мы люди государевы Олонецкаго уезда собрахомся от тесноты крайныя. Принуждаемы есмы, к настоящейся вере, Никонова вымышления, а, имянно, к триперстному сложению, ими же повелевают креститися, пятиперстное малакса, некоего благословение прияти, новое причастие, под знаменованием двочастнаго креста, прияти символ православныя веры, аки выправленыи греческими и российскими настоящими архиереи, без прилагателнаго имени Истиннаго читати: и прочия новости, не бывшия прежде в российстей церкви, содержати и верити по вам не будем.
Таков ответ, и тому подобныи им сотворшим. Главныя от команды реша: не будите вы упрямы, но послушайте добрая вам советующих. Они же паки не можем мы глаголюще, новости прияти: лучше нам за древность святыя великороссийския и греческия церкве умрети, нежели с новостию никоновою живым быти. Команда же начат сурово приступ чинити, и огнь показаша пушечныя пальбы, потом и из мелково оружья.
Обдержимыи же внутрь монастыря народ, видя напрасное и суровое буйство, и неудержанное продерзание, аки у разбойников нань, приготова вещество к нужному случаю и конечному смертному часу сготовленое: солому, смолье, порох и прочая заправленое сготовльше: зажигают огнем гасимым: лучше разсудивше скончатися жестокою болезнию чювственнаго огня жжением, за древнее святоотеческое благочестие, и правую несумнительную веру: нежели с Никоновыми новинами преданным быти родству огненому, червию неумирающему, тме кромешней, и прочим, конца не имущим мукам: и с таковым добрым и велеумным разсуждением скончашася о Господе: предаша душа своя в руце Бога жива. Лета от создания осмыя тысящи: 195-го, месяца марта, 4 дня, на память преподобнаго отца нашего Герасима иже на Иордане.
Таковым образом и несумнительною верою усердно преселишася доблии страстотерпцы и исповедницы всероссийстии богомудрии и доброревностныи преподобныи отец Игнатии, с доброю и союзною дружиною своею, от седмаго настоящаго века, к хотящему приити некончаемому осмому, отъидоша. Вечная им память 3-жды. Дозде надсловие. 2-е.
Сия и сицевая любве ради Христовы во обще к вашему согласию, о благонравнейшии стязателю и любоперниче охотныи, Илие, о вышепомянутом по нам отце Игнатии, по добрей совести защищающи, пишем о нем и глаголем вам. Иже бысть дом преполныи разума и прмудрости духовныя и священных писании и истории церковных и внешних, читатель и ведетель многопремудрыи, и христианских законов и священных апостольских и святоотеческих правил преполное и честное сокровище. От вашего согласия именуемаго феодосиева, напрасно многолетно многими языки, не токмо от главных, но и последних невежд злословится, и гаждаем есть: и сицевая творятся по безбоязньству видится страшнаго суда Божия.
Престаните прочее братие и друзи языкопольства такова, и другим по вам ревнующим, запрещением запретите, да недходят хулою, по их непщуемою ревностию, ради вышепомянутаго Пилатова написания, четырех литер, иже есть, I Н Ц I, яснейши рещи, Исус Назарянин, Царь Иудейский: престаните и паки глаголем престаните, праздныя хвалители быти, убойтеся, да некогда прогневается Господь, по псаломскому словеси, хвалимыи святою церковию, Царь Славы, и по апостолу Царь царствующих и Господь господствующих.
Уже бо и так страшно и ужасно слышати, случая несчасливаго в вас: мнози бо изомроша, и первии начася, яко же сказуют от лиц ваших духовных, по них же произыде послежде и на весь московскии народ: и ныне достоит рещи: Боже и Господи сил пощади люди своя, ибо и тебе, ревнителю, случися быти под тем же наказанием судеб Божиих: но посрочил суд сотворшаго всяческая ради должнаго в нас исправления и прочая.
Дозде на первыи пункт, или вопрос ответ должныи.
Вторыи пункт зазрения
Неблагочестивыя лица шестью прилагателными имяны, в тропарех, кондакох и икосах: Благоверными, Благочестивыми, Православными, Правоверными, Крестоносными, Христолюбивыми нарицаете.
Ответ 2-и
Древлеправославная кафолическая церковь на священных писании, аки на камени крепце непременныи фундамент свои содержит исконно: на апостольских и церковных учителей, отец святых не погрешаем. Многим убо законом сущим, един убо есть сей, наипервыи: молитвы и моления творити за вся человеки собственно же и похвално есть: за царя и за вся иже во власти суть. И вину изъявляет полезну: яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и прочая. И не токмо молитвы творити за власти сущия, но и честными и подоболепными прилагателными имяны почитати величество их: то есть благоверными, благочестивыми, христолюбивыми и прочая, но да не возмнится излишество в словесех.
Приидем на самыя апостольския и святых отец доказания и свидетельства яснейше солнца светлеющия яже суть:
Доказание первое и свидетельство
Молю убо прежде всех, творити моления, молитвы ходатайство, благодарения за вся человеки: за царей, и за всех на власти сущих, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте: сие бо добро и приятно пред Спасителем нашим, Богом, иже всем человеком хощет спастися и в разум истинныи приити. (1 Тим. Беседа 6. Златоуст) Что же есть, еже прежде всех: сиречь, в служении повседневном и сие таинницы ведят како на всяк день бывает и на вечер, и утро: како за весь мир, и за царей, и за всех, иже во власти сущих, моление творим; НИЖЕ.
Зри что глаголет и како полагает прибыток, да поне сице приимем наказание да тихое рече, и безмолвное житие поживем, сиречь, онех спасение — наше есть безпечалие, яко же и в послании к римляном подвизая их повиноватися князем глаголет: не точию за нужду, но и за совесть Бог бо во общую ползу начальства учинил есть. Како убо не безместно онем убо за сие воинствовати, и оружия предлагати, да мы в свободе пребываем: нам же ниже за приемлющих беды и воинствующих творити моления: тем же несть ласкательство вещь, но по праведнаго бывает слову. Дозде Златоуст.
Доказание 2-е
Сущее. Молю убо прежде всего.
Толкование во вседневней службе. Се прежде инех да будет память. Ниже. Хощете убо и за царя молити, да победят и пребывают: ниже. Епископу бо общу отцу сущу подобает за вся человеки молитися: за верны, и неверны за други и враги, и за искушающия и за оскорбляющия: ниже: тако наведе и за царя и за вся во власти сущих.
Сущее: да тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благоверии и чистоте;
Толкование. Да не мятется христианин: что во время тайн поминается царь многащи и неверен сущь: являет нам приобретение онех спасение, [како] аще бо они спасаются и благоволят в сущих, еже ко врагом брани, мы в молчании и тихости пребываем, ни единому нас смущающу. Аще бо бы безместно, тем убо за общение тщатися, нам же по силе молитвы за ня приносити. Ниже.
Толкование. Аще той рече хощет всем спастися, иже и спасаяи Господь кая потреба наших молитв: ей тех же и онех в любовь влечеши и любовное являеши: подобишися [рече] смотрению Божию: той бо всем хощет спастися и ты от всех моли. (Апостол толковый превода инока Максима Грека)
Доказание 3-е
Из благовестника. Воздадите бо рече: кесарева кесареви, а Божие Богови. И виждь не рече дадите, но воздадите, долг бо есть рече: воздаждь убо долг. Хранит тя князь от ратных, житие твое мирно строит, должен еси ему данию. На странице напечатано киноварными словесы сице: Зде разумей мудраго ответа Спасова, еже кесарева кесареви а Божия Богови. Не токмо царю дань давайте, но и Бога молите за него. Дозде из благовестника.
Доказание 4-е
Что есть царь. Царь бо ничто же ино есть, разве образ живыи видим, сиречь одушевлен, самого Царя Небеснаго. Яко же рече некии от еллинских философов, к некоему царю глаголя сице: Царство уверен быв буди тому достоин царь бо Божии есть образ, одушевлен сиречь жив. (Максим Грек, глава 24)
Доказание 5-е
О том же гласит. Царь есть: законное настоятельство, общее, благое всем послушливым. Ниже. По пристрастию благо творя, ниже по противострастию зло творя: новозсловно некии сыи подвигоположнии и натрижнения {труд, подвиг, награда за подвиг} изравна подавая. Дозде Севаст. (Севаст Арменопул. Книга 2. О царех римских)
Надсловие или увещание
Слышиши ли любоперниче, яже не точию слышати тебе лет есть, аще хощеши кафолическия церкви не сумнителныи последователь быти, но и веровав последовати тоя законом.
Доказание 6-е.
О почитании властей
Повинитеся убо всякому человечу созданию Господа ради, аще царю, яко преобладающу, аще ли князем, яко от него посланным во отмщение злодеем в похвалу же благотворцем. Яко тако есть воля Божия благотворящим обуздовати безумных человек невеждество. Ниже: но яко раби Божии всех почитайте, братьство возлюбите: Бога бойтеся, царя чтите: раби повинуйтеся, во всяком страсе владыкам: не токмо благим и кротким но и строптивым: се бо есть угодно пред Богом. (1 Петр. 2. Зач.58)
Увещание
Внемли велеумие, аще чювства имаши, к писанным выше, коль дивно и честно нарицателно имя властем, описует ни что ино токмо образ Божии, одушевлен самого царствующих царя Христа и законное настоятельство и правило живущим во вселенней, наипаче во Христа верующим народом. Сего ради и апостольская выше показанная уста, всех нас к повиновению и покорению тех увещевают и повинуют глаголюще: повинитеся убо всякому человечу созданию, Господа ради: аще царю, яко преобладающу, аще ли князем, яко от него посланным во отмщение злодеем в похвалу же благотворцем и прочая, и прочая.
Видиши ли коль нуждны и потребны начальствующии власти народом во вселенней живущим: яко же тело без души мертво есть: тако и вселенная без правления царска, или княженскаго в нестроение и запустение абие приходит, и скончевается и прочая, и прочая.
Виждь како святая церкви вседневно и вечер и утро повелевает молитися о царех, и за вся начальствующия: и пользу показует, яко тихое и безмолвное житие поживем: они войньствуют за нас, кровь свою проливающе яко воду: ты же и помолитися не хощеши, не скланяя слуха к священному писанию, учащему и повелевающему молитися за властей и честными титулами величати их и почитати.
Но еще тебе предлагаем довод непогрешимыи о молитве за начальствующия и аще и жесток еси, устыдишися упрям быти и непослушен.
Церковь святая, усты всех святых исконно непогрешно молит за начальство земское и не может таковыя догмы [уставы] отменити когда. Но и сама всепетая Мати Бога Слова такова церковнаго догмата не токмо не пременяет его, но и согласуется тому, последующи, яко Владычица мира. Свидетель тому достоверен: всецерковная песнь, повседневно, во услышание всем, глашающи умиленно, яко сладкопеснивая ластовица сицевая.
Блажим тя вси роди Богородице Дево, в Тя бо невместимыи Христос Бог наш вместитися изволи, блажени есмы и мы Помощницу Тя имуще, день бо и нощь молишися о нас: и державы царствия Твоими молитвами утвержаются: (На полунощнице повседневной, псалтырь след. 167)
Державы множественым числом состоимы и глашаются о них же молит всепетая дненощно, яко же выше изъявися. Ты же до толика себе самого являеши, упряма, яко не точию, неисчисленыи собор святых апостол и святых отцев представленыи нами, в вышепоказанных словесех к преполезной за вся человеки молитвы, и самыи молитвенныи уставов устав и чин богоприятныи, пренепорочныя Матере Господни не увеща, ни умягчи ваше не похвалное устоиньство, на всяк день или утро исконно гласимыи: о нрава жестокости грубости; о, и прочая, и прочая.
Прочее; что ино к твоему такову устойству приречем.
Разве апокалипсическая словеса, и во увещание и в страх спасительныи. [Иже есть] обидяи да обидит еще, и скверныи, да сквернится еще, и праведныи правду да творит еще: и святыи, да святится еще: и се гряду скоро, и мзда моя со мною, воздати комуждо по делом его: Аз есмь Альфа и Омега и прочаяя. (Апокалипсис. Гл. 22)
Доказание 7-е.
О царе Константии, арианскаго мнения бывшем
Судия. Благочестиваго царя грамота да чтется тако:
Константин Константии благочестивыи вечныи победитель и венценосец, праведныи Август, прову судия здравия. Божиею благодатию отеческии получившу престол, о сем первее мне усильствовати требе, познаваю дабы еретическое сожитие изтребивше, святой вере нашей, совокуплен сущь, радовался весь свет и прочая. (В прении Афонасия [Великаго] со арием. Припрове судии)
Увещание из любовнаго по нам залога.
Смотри, друже, како святыи Афанасии, пастырь богомудрыи в разговоре о богословии: еже есть исповедати Сына Божия единосущна и сопрестолна Богу и Отцу и соприсносущна Святому и Животворящему Духу: а не тварь по Арию: о сем крепко и не премолчно мужествуя и исповедуя бяше.
А о церковнем титуле слышав возглас судии, еже возъименова его благочестивым и в грамоте вторично почтена слышав, тем же титулом, еже есть благочестивыи, не сумнителна себе яви и проста. Аще бы сумнение каковое было в егове мысле, молчанием не покрыл бы: богоревнивыи он: а яко слыша разуме молчанием заключи: убо видно показа себе не сумнителна и весма цела о наименовании цареве благочестивым.
Ты же хитрыи человече: еже ли хощеши согласна себе показати богомудрому церкве святыя пастыреви Афанасию, должен еси согласная тому и мудрствовати и глаголати, яко же и он: а не претыкатися разгласием. Да некогда на долзе дремля скончаеши в нем живот свои. От чего же да избавит ны Владыка Христос Бог наш, за многое неизчетное милосердие свое.
Доказание 8-е.
О царе Феофиле
Иже от высочайшия десницы Божия всемогущия вышняго Царя царем, Господа господем: им же цари царствуют, и силнии держат землю, им же велицыи величаются и могущии пишут правду, славою и честию венчанному, Богом поставленному, имя имущему, боголюбия самодержцу, царю и владыце, иже повелением и званием Божия строения браздодержателю греческаго начальства. Ниже.
Сие твердое и крепкое, и честное царство дал есть Бог в руце твои богоутверженныи владыко, и славою и честию венчав, боговенчанную главу твою. Ниже.
Сего ради помаза тя господьствовати Бог твой елеом радости, паче причастник твоих. Ниже.
Царь велик еси и самодержец и зело христиан, иже скипетры римскаго царства великаго по закону приим Христом, Царя царем, и Господа господем. Ниже.
Яко да сим богоутверженныи владыко и благочестивыи пребывая по достоянию и по правде велелепнаго твоего царства пребываеши исправляя слово твоея истины. Ниже.
И молим, дабы было долголетное житие твое, Богом поставленныи, и Богом венчанныи, владыко, поминаем же благочестивую твою державу, понеже убо и малыя сия книжицы списахом к вашему богопоставленному владычеству и господьству собрашеся во святом граде Божием. Ниже.
Всемогущая и всесодержащая десница Вышняго, да сохранит Богом поставленное твое царство, самодержавнаго царя и вечнаго владыки, и мирно да будет и многолетно твое царствие со всеми повинующимися тебе христолюбивыми воины и прочими людьми. Дозде из многосложнаго свитка. (Многосложное послание святых отец, 1955 лист, на обор.)
Блаженная же Феодора [царица того жена] отай верна бяше, да яко виде бывшее, абие отгна от церкви еретика патриарха, великаго же Мефодия вместо его введе с советом же его ради царя Феофила, та убо внутрь полат, милостынями же и прочими благими делы.
Патриарх тако же с прочими христианы упражняшеся на молитву и пение во бдениих всю первую неделю великия четыредесятницы. И по совершении недели, ответ прият патриарх от Бога, тако же и Феодора царица, яко спасеся царь Феофил и оттоле восприят церковь совершенное православие, и уставлено бысть праздноватися первой недели.
Но да видим, како спасеся Феофил, показа конец, яко в покаянии обретеся, внегда лобзати и прочая сотвори божественному образу. Дозде Никон. (Никон Черногорскии. Слово 38)
О вышеписаных нами честныи Илие: чаю доволно возмогл еси почювствовати о Феофиле царе и егове шатании на святыя иконы: но молитв ради святых Божиих угодников, вышепомянутых отцев: и теплыя ради веры и боголюбия жены его царицы Феодоры милость и прощение получи царь Феофил, и спасен бысть. Прочти о нем в синоксаре описание, ежели хощеши каковым образом ужасным спасен бысть, и ползу получиши велию.
Но святии отцы писателною тростию писаша к царю Феофилу и честно и зело учтиво послание еще в животе ему бывшу.
А святая кафолическая церковь послание оно в закон прия и повеле по всягодно прочитати, посреде соборныя церкве во услышание всем и общую пользу: да познают вси, каковым учтивым образом почитати достоит Богом поставленное царское достоинство и высоту самем Богом определенную.
Тойждь вышеозначенныи свиток повелено читати и в соловецком типице, си есть уставе преподобных отец Зосимы и Саватия, в седмицу сыропустную, по всягодно неотменно.
От сицевых вышеписанных богословных вин воньми себе Илие, честныи [хитрый] грамотниче, и не буди упорен, но согласная с кафолическою церковию и говори и умствуй, да себе самого спасеши, воспевающь и торжествующь, по апостолу, благовременная церковь Бога жива столп [есть] и утвержение истины. (Стих 1, глава 3, зач. 284) Дозде увещание.
Доказание 9-е.
О Анастасии кесаре евтихианине мнением
Царь Анастасии с радостию отцы приим. Ниже. Бяше бо любя черноризцы, аще и наважен бе от еретик и разврати православную веру. Ниже. Глаголя ко святому Саве, ты отче ничто же просиши, да что ради толик труд подъял еси. Отвещав старец рече: аз благочестивыи царю приидох семо, первие убо поклонитися стопам вашего благоверия, ниже молитися о святем Божии граде Иеросалиме и о преподобнем архиепископе нашем. Ниже. [И паки] Великии Сава рече: хощу зде озимети и достоин быти вашему поклонитися благоверию. Тогда царь ины игумены в Палестину отпусти, ему же озимети повеле тоу. И абие чернечестии старейшины блаженныи Феодосии и Сава, собраша мнози чернечество и советоваша и единым умом здумавше писание с молением послаша к царю имущо сице.
Писание молителное.
Боголюбивому и благочестивому Августу, самодержцу царю Анастасию, христолюбцу.
Моление от Феодосия и Савы архимандрит и прочих всех черноризец живущих в Божии граде Иеросалиме самом и около града Божия: и оба полы святаго Иордана, и во всех пустынях. Ниже.
Молим твое благочестие помиловати монастырь святыи Сион: да повелит твоя держава преставити обдержащей сей бури на святыи град. Ниже.
Да повелит твое благочестие утолити злобная сия безчиния, на святыи сей Божии град: и на архиепископа нашего Иоанна от врагов истины. Ниже.
Мир же Божии, превосходяи всяк ум да сохранит свою церковь и оставит пакость ей творящих повелением твоего державнаго царства. Дозде от жития святаго Савы.
О вышеписанныя благодатныя учтивости, си есть честных словес преподобных отец Феодосия и Савы: можно тебе престати молвити на ны, в наречении титула властем, в честь от нас возносимаго. Но видно от занравия, яко же и прочии согласники ваши не хощеши, согласитися в честной и богоугодной учтивости ко властем Богом уставленым, но поне покорити свой нрав: чюдотворным преподобной двоице отцем Феодосию и Саве: и всему вышеозначенному сонму преподобных инок: о нем же можно непогрешно рещи псаломское песнопение: Бог ста в сонме богов и паки в совете правых и сонме велия дела Господня и прочая. (Пс. 81,1,110,1)
Да негли, и о вас збудется Давыдово глашение: се что добро или что красно, но еже жити братии вкупе. (Пс. 132,1)
Ащели не можете умягчити давными времяны совесть, всего вашего согласия; но поне ты [Илие] и товарищи твои бывшии у нас, во общежительстве, покоритеся не нам, но богомудраго апостола Павла уставу непогрешимому, толь громко и благодатно учащему, не к римляном точию, но и к нам христианьская мудрствующим.
Воздадите убо всем должная: ему же убо урок урок: а ему же дань дань, а ему же страх страх, и ему же честь честь. Ни единому же ничим же должни бывайте: точию еже любити друг друга. (Рим.,13;7) Дозде Павлова словеса благодати Духа Святаго преисполнена.
Сицева наставления апостольскаго кто от правоверных послушати не хощет: кто, от иже страхом Божиим огражденых, покоритися тому не будет. Прочее убоимся честнии слышатели, да не к нам речется псаломническое глашение. Днесь аще глас его услышите не ожестите сердец ваших. (Пс. 94:8)
Таковыми благоуветливыми словесы, Божии пророк призывает, ны грубыя, к миру и согласию богоугодному и любви взаимнои друг другови и прочая.
Доказание 10-е.
О почитании властей
Прежде даже ответствовати нам от книги ответныя, трудов велеумных отцев наших, от вопросоответа о императорском величестве: ответ непогрешимыи во свидетельство предлагаем вам.
Сия форма: си есть образец учтивыи есть и вышеписанным по нам доказанием к вашему увещанию союзныи: да вообразится в сердцах ваших к честной и богоугодной учтивости почитанию богоданных и богохранимых властей.
По реченному от апостола Павла: несть бо власть, аще не от Бога, сущия же власти от Бога учинени суть таковая предложивше ответствуем. (Ответ 52)
Христос Бог во священном евангелии, научает глаголя: воздадите убо яже кесарева, кесареви, и яже Божия Богови. (Лук., гл. 20. зач.101) Сим спасительным его наказанием и мы грубии научаемся, яже в богослужение и в богоугождение надлежат благочестия тайньства, церковная уставохранения, спасителная дела, воздавати всеверно Богови. Тако и от Его вседержащия Божия десницы поставленному и славою и честию венчанному, всепресветлейшему державнейшему императору, всемилостивейшему нашему государю, должныя чести и покорения благодарения и всеверная служения, всеусердно воздавати. Сице мы и апостольскаго священнаго наказания научаемся, глаголющаго: Бога бойтесь, царя чтите: 1 Петр., гл 2. зач. 58. Сице мы и от святоотеческих, гласов и от прародителей и родителей наших навыкохом древлецерковное святоотеческое благочестие, в богоугождение, и во спасение душ своих, всеверно содержати. И его богоизбранное всепресветлейшее императорское, честнейшими гласы всеговейно почитати. Мы аще о внесенных от Никона новоопреданиих сомневаемся: но не сомневаемся о богопоставленнем самодержавстии, богохранимаго и богопомазанного самодержца. Но его боговенчанное и богопочтенное премудрое и всемилостивейшее величество всепресветлейшаго императора Петра Великаго, отца отечествия, богохранимаго самодержца, всемилоствейшаго нашего государя, всеговейно почитаем, и всеусердно прославляем и всежеланно благодарствуем и благодарствовати и почитати когда не перестанем. Мы его государьскаго благочестия не истязуем, но Господа Бога за его милосердое величество молим, по реченному у псалмопевца: Господи спаси царя, и услыши ны в онь же день аще призовет тя. Мы его императорскаго православия не испытуем, но всякаго блага его боголюбивому величеству доброхотно желаем и от Господа Бога просим. Тем еже в вопросе сем вопрошаеши о нелепом прочитании к некаким, и прочая. Но его богопомазаннем всепресветлейшим величестве, таковаго нелепаго причитания, или инаго нечестнословия не точию глаголати глаголати, но и слышати не хощем. И вопрошаемых таковых словес произносити ужасаемся. Мы и святейшего правительствующаго Синода не уничижаем, но честно почитаем и архиерейскаго достоиньства безчестными словесы не оглаголуем. Аще же от новостех каких, от Никоновых времен в церковь внесенных, сомневаемся и опасаемся и древлеправославныя церкве, святоотеческое содержание, безсомнително во спасение душ своих содержим. Но на их архиерейския высокия чины, мы премалейшии и последнейшии суда наносити не дерзаем. Мы и прочия от Бога почтенныя всероссийския градоправителей и военачалников персоны, должни не судити, но честно почитати, и Бога за них молити: яко за почтенныя от Бога, яко за радитили и правители государства, яко за верныя и доброхотливыя служители великому государю. Мы и прочия вся российския христианы осуждати опасаемся, по священному апостольскому заповеданию, сице глаголющему. Ты кто еси судяй чюждему рабу: своему господеви стоит или падает. (Рим., гл 14;4. зач. 112) Тем же долженствуем мы не прочия судити, но свое спасение разсуждати и соблюдати: и от Господа Бога просити мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость. Дозде ответ отеческии.
Сицевым боговразумляемым, по нам, честным и велеумным боголюбивых отец наших ответом о его блаженныя и вечнодостойныя памяти его императорскаго величества, Петра Великаго, отца отечества, императора и самодержца всероссийскаго, советуем и просим тя благоразумныи Илие: и прочих старших, и до последняго вашего мнения согласных быти с наставлением апостольским и со всею кафолическою древлеправославною церковию. И союзно той и несумнително именовати и величати богоданными им титулами: и Господа Бога и Царя царствующих и Господа господьствующих молити и просити о телесном их и душевном спасении: и о всей полате и войньстве их. И не точию келейно и вседомовно молити, но и молением соборным общим молитися о победе на супостаты, яко же повелевает древлеправославная церковь. Яко да Господь Бог покорит под нозе их величества и безбожную бусурманскую измаильтескую гордость: и всю до конца махметанскую пагубную спесь смирит.
Наилучше же и величайше и благосчастливейше [дай Боже] даждь да вознесется рог: благочестивейшия государыни нашея ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, самодержицы всероссийския: и всемилостиваго цесаревича и великаго князя ПАВЛА ПЕТРОВИЧА: и одарит их всяким благословением и здравием на множайшая всесчастливая и мирная лета, лета и лета: по гласу кафолическия церкве: [иже есть сицевым] яко всяко даяние благо и всяк дар совершен свыше исходяи от Тебе, Отца Светом [Светов].
Сицевым братолюбным и многотрудным советом увещевающе вы любве ради Божия и общаго вам и нам спасения [его же ничто в свете сем честнейше любезнейше и наивышше и преполезнейши], запечатлевающе и окончевающе не претворно, и глашающе, сицевая даждь Боже даждь, да будет будет, аминь.
Копия с челобитной соловецких отец
Благоверному и благочестивому, и в православии пресветлосияющему, от небеснаго Царя помазанному, во царех всея вселенныя великому князю Алексею Михайловичу, всея великия и малыя и белыя России самодержцу.
Биют челом нищии твои государевы богомольцы соловецкаго монастыря: келарь Азарей и казначей Геронтии и священницы и диаконы и соборные чернцы, и вся рядовая и болничная братия, и служки и трудники вси;
По предании Государь Никона, бывшаго патриарха, и по новоизложенным его книгам проповедуют нам ныне его, Никоновы ученицы, новую незнаемую веру, по своему плотскому мудрованию, а не по апостольскому и святых отец преданию. Ея же веры не точию мы, но и прадеды и отцы наши до нас, такия Никонова патриаршества и до сего времене слыхом не слыхали. А в коем православии прародители государевы скончалися и многия святии отцы и чюдотворцы наши Зосима и Саватии и Герман и Филип митрополит, и прочии святии отцы угодили Господу Богу, и ту истинную нашу православную веру они похулили и весь церковныи чин и устав нарушили и книги вси перепечатали на свой разум богопротивно и развращенно. А что Государь их непотребство и развращение в тех новых книгах объявилось книги сами, мимо нас, обличают: лист 766, Дамаскин иподиякон в слове своем в неделю 3-ю: Святаго Поста повелевает нам, православным христианом, ходити по татарски, без крестов, и пишет сице: Кая рече полза, или кая добродетель есть носити кому крест на раме своем, и прочая. Дозде из челобитной.
Третий пункт
Яко бы мы, во время иеромонаха Неофита с ним разглагольства и камисии отреклися, яко сами не покрещены и других не покрещеваем.
Ответ на третий пункт, А
Всяка лжа от истины несть, яко же священное гласит слово: сице и по тебе, велеумныи Илие, может решися; глаголеши, яко отреклися: не крещены и яко бы и других не покрещеваем. Явственно ложь твоя может обличена быти книгою ответною {Поморские ответы}, что уже обличается в ней 102-м ответом, данным иеромонаху Неофиту, всему духовному их синоду. Уже весь духовныи синод и вси господствующия персоны вся Россия известна о всех наших состоянии, а ты лжеши, хотех сказать бредиши, яко бы мы отреклися крещения и других не покрещеваем. Аще бы о крещении не гласило слово по нам ответное, имелося бы по тебе рещи яко умолчахом о второкрещении, ащели толь звонко гласит, яко вся российския концы извествуются: к тому же и мы грубии со сверстники своими и имянно с надежным братом Мануилом Петровичем и прочими товарищи удостоихомся от отец наших со ответною книгою послани быти и самоустно своими языки, елико Бог вразумил, правость святоотеческаго согласия свидетельствовали: и вспять к домови благополучно возвратившеся не посрамлени: о сем вся Россия исполнися известия, а ты, Илие, говоришь, яко отреклися крещения и других не крестили.
Прочти книгу ответную, и в ней ответ сто вторыи, и уверишися не ложно: яко же камень верженыи на воздух скоро возвращается к пославшему и тако и лживое, и вероятия недостойное, слово возвращается и падает на егову душу, и зело вредит. А истинное слово не токмо не вредит истину вещающаго, но и честию венчает его и веры достойна словесе его показует, и утешает тем же.
[вонми] Слышателю: Ибо Господь наш Исус Христос многим апостолом священства неимущим повеле крестити. Ибо от Христа и апостол свидетельствуемо есть, яко простым крестити, вне присудствии священства, повелевается: крестил Филип диакон: крестил Анания Павла: крестил Галактион святую супружницу свою Епистимию: крестил святыи мученик Мина Ермогена: сице простии сущи крещаху в неприсудствии священника. И номоканон свидетельствует сицево: аще кто есть священник неискусен, а другии несвященник искусен же, сему паче священника праведно есть помышления приимати и правилно исправляти: наполе напечатано старча исповедь прията.
И сему действители бывше святии отцы не священницы суще: преподобныи Антонии Великии: Пахомии Великии: Сава Освященныи, еще до священства братию собрав, помышления приимаше: преподобныи Иоаникии Великии, не священник сыи, помышления приимаше: святыи мученик Христофор две жене блуднице кающеися прият и прощение им подаде.
И аще вышеписанная наша доказания свидетельствуют о крещении и покаянии, и иноков, мужей и жен простых: известно буди вам: яко вся таковая, внутрь нашего общежительства, делом исполняхуся и совершахуся: не пресечно и непременно.
Престани прочее празднословити, хотех сказать клеветати, да не вменится тебе в великии вред душевныи, но паче яко велеумен не полагай в забвение апостольскаго наставления, глашающаго: со страхом жития вашего время жительствуйте и прочая. (1Петр. 1, зач 58)
Дозде третии пункт.
Ответ на третии пункт, В
В вышшем ответе ясно показахом, яко второкрещение в нас действително совершаемо и исполняемо над приходящими к нам. По новопечатным же книгам творимое, яко сумнителное отлагаемо. Но от страны Ильины неутолимыи ропот: поморцы отреклися крещения, всем и везде наслышает, по безбоязни вышняго, и всем право судити хотящаго Бога нашего: тем же долженствуем мы уверити его и вся честныя слышатели не ложным, но праведным решением.
Во время камисии над нами бывшей: случися двум от братии нашей в допросе быти и по своей простоте сказали о себе, яко прекрещены снова, по старому: а о других де мы не знаем. Камиссия же услышавши прекрещение, скоро уведомляет в синод и оттуду указ посылается, повелевающии всех пустынных допросити: могут они вси новокрещены быти: и оттого часа стала быть волокида всем в допросе, волоччися старым и юным безотговорно. Таковая необходимая теснота коснулася и до нашей худости: а мы в то время случилися в канцелярии под караулом: и допрос взяхомся. Нужда нам тогда наста, сказывать сугуба: первая о своем имени: вторая о действители: от кого и когда крещен. Но Бог благии не оставляет раб своих. Канцелярист молод, но умен, подружил, вместо Ивана мирскаго по нам имене прописал и молвил вслух Даниил Матфеев: и тем словом свободихся от печали: а крещена о себе самом сказах: во младенческом возрасте старцем Варлаамом: время точию отменив, а правость святаго крещения не потаил есмь. Еже ли бы не отменил времени крещения, то во истязание излишное впал бых: где таковыи действитель ныне находится и коей он обители или епархии, и прочая коварства произошли бы. А оныи отец Варлаам в живых находился тогда, и нужда бы была нам общая с ним и теснота крайная. Того ради, с мысленным словом Богу помогающу, избыхом от синодальныя тесноты: а в таковых догадливых словесех боговразумляеми, неповредихом благочестия и свидетель на таковыи, редко бываемыи случай в христианех, честен и достоверен. Преподобныи авва Дорофей, в сочиненной от него книзе, в слове о лжи, поучение 9, на листе 85 свято учит сице.
Святыи Авва Дорофей
Есть же, яко бывает нужда вещи, и аще не скрыет кто мало, приходит вещь во множайшее смущение и скорбь. Егда убо таково обстояние будет и видит кто себе принуждаема, сего ради изменити глагол, да не будет, яко же рех множайшее смущение и скорбь или беда, яко же рече авва Алонии, авве Агафону: Се два человека при тебе убийство сотвориста и един бежа в келию твою, и се князь и при его и вопрошает тя, глаголя: при тебе ли убийство бысть. Аще не солжеши предаси человека на смерть.
Егда убо великая нужда приключится, должен есть кто ниже сице без печали быти: но каятися, и плакати, пред Богом, и имети таковое яко же время напасти. И ин же сие часте, но единою многих деля. Яко же бо и офириакии {териак — лекарство} и чищении внутреннем, аще на часте пиема, вредят, ащели же испиет кто единою летом, ради великия нужды, ползуют его. Сице должен есть кто, приимати вещь сию, да аще нужды ради восхощет изменити глагол, не часто, но что убо да есть единою, многих ради, аще видит, яко же рех, многу нужду: и самое же то еже временем, со страхом и трепетом, показуя Богу и произволение свое и нужду, и покрыен будет: зане и в том пакость приемлет. Дозде Авва Дорофей.
Слышиши ли Илие: чаю слышиши, како богомудрыи авва Дорофей не согласует твоему мнимому зазрению, ни порекует ны грубыя отречением гаждая, но отечески непогрешно во время напасти глагол отменити советует, которыи мнимаго по тебе отрицания не творит: тем же благодать всесилному Богу, не попустившему ны грубыя над’силу искуситися, но со искушением, сотвори и милость, яко благ, с нами грубыми. Тем же друже и брате время ти уже отложити глагол небратолюбныи и тебе самого не пользующии: еже пишеши, на мнозе молву творити, яко отреклися: но любныи и дружескии: паче же той самыи, его же Христа Бога нашего уста изрекоста не како к своим его учеником, иже есть сицевыи: вы друзи мои есте и прочая. (Иоанн 15;14)
Дозде ответ на третии пункт.
Четвертыи пункт
Некрещеных умерших поминаете и псалтырь говорите по таковых.
Ответ на четвертыи пункт
Нужда наша влечет ны грубыя, и на четвертыи пункт ваш: ответ творити, не яко некрещеных, по вам мнимым, отцеве наши уставиша помяновение творити: но обещевающихся и готовящихся всегда и намерение не сумнителное в сердцах своих имущих: во одежду нетленну, си есть святаго крещения удостоитися, но суеты многоскорбнаго века сего и тягости безмерныя, и не хотящих в вавилоне суетнаго века сего мешкати, удерживают безмерно и надсилу томят. Из таковых убо, добрых рачителей: волею создавшаго и Бога, преставится: и сродницы таковаго отец или мать, или кто от своих ему принесут во ограду братскую, и сиротскую, по силе своей на помяновение: многажды же и тело умершаго или умершия привозят во ограду и близ сродников своих погребают е. И таковых верных и усердных мужей и жен и благотворительствующих: соборным советом отцы наши Д. В. [Даниил Викулович] и А. Д. [Андрей Дионисьевич] повелеша, за усердие их и крепкую веру, к целости благочестия, и псалтырь говорити по таковых, кроме панихид и канона за единоумершаго: а прочая навершати и поклонами и молитвами келейными и милостынями к нищим, ко вдовицам и сиротскому множеству, по возможности дающаго.
И тропари, по вам оглаголуемыя, а по нам форма или образец, не нами уставленныи, но от отец наших и по потребе вещи: на коейждо славе говорит приличен есть. [сицевыи] Покой Господи душу усопшаго раба твоего, или рабы имярек, елика согреши, яко человек, во вся дни живота его, в слове и в деле, и в помышлении: прости ему всяко согрешение волное и не вольное, и избави его вечныя муки, огня негасимаго, яже есть геены несветимыя, червия неумираюшаго, скрежета зубнаго и прочих, конца не имущих, мучении: [наконец глаголет.] Удостой его небеснаго и конца не имущаго царствия небеснаго, со всеми святыми твоими, яко благословен еси и препрославлен со Отцем и со Святым Духом ныне и присно и в нескончаемыя веки веком, аминь.
Дозде форма, то есть образец святоотеческии.
К вышеписанным еще, любве ради Христовы, прилагаю тебе повесть, вероятия достойную: Патерик египетскии, неложно, гласит сицево.
Некто христианин имея по закону жену и едину дщерь и изшедшим им в пустыню жити богорадно, и разделившим имение свое в три части: едину часть самому си: вторую жене своей, третию же дщери своей: которая еще сущи случися быти не крещена, тогдашних времен бе обычай в христианех, не крестиша до полнаго возраста. По времени некоем случися дщери ею в болезнь впасти и мало болезновавши умре. Отец же ея имати в печали быста о дщери своей и наипаче за ради сего, яко некрещена обретшися умрети, и в печали возблагодушествоваша: и койждо свою часть и дщере своея за душу умершия дщери своея, раздаста нищим и сиротам, и плачущим очима моляста Бога о дщери ею. Пребывающим же им в печали о своей дщери, и молящим прилежно щедроты Божия: слышит глаголющь к нему: не печалуй отныне о дщери своей, уже бо крещена есть. Он же слышав умилися душею: но обаче преодолеваем печалию о дщери своей тужа и печалуя, пребываше яко некрещена отъиде ко иному миру: еще ему прилежне моляшуся. Слышит вторицею глас глаголющ к нему: не тужи о дщери своей, уже бо крещена, ащели сумнишися иди откопай гроб ея и уверишися, яко преложена с крещеными: он же шед откопа гроб ея и ничтоже обрете, уверився пребых прочее, хваля и славя Бога, творящаго дивная и преславная с рабы своими. И о сих дозде.
И сия предложивши вам, Илие, из любве трудими: яко Бог благ и человеколюбив есть и солнце свое сияя на злыя и благия и дождем дождит на праведныя и на неправедныя и всем, по коегождо вере и добродетели, воздает благая. Сице и в нас творимая по уставом святоотеческим, яко благ не имать презрети: но благостию своею неизмеримою во свое время воздаст. Ты же, аще мниши себе разумна, остави судити и зазирати другия, а наипаче в нас святоотеческия обычаи и предания исконныя, отнюдь какову зазрению неподлежащия: и никогда ни от кого разумных под зазрением бывшая, разве удивления: никогда и прочая, и прочая.
Пятыи пункт
За живых некрещеных молебны поете, яко неприлично есть.
Ответ на пятыи пункт
Святаго апостола Павла уста, Христова суть уста, уста Златоустаго Христова суть и Павлова уста. Той к Тимофею в первом послании, в зачале 282-м, свято учит глаголя сице.
Иоанн Златоуст: беседа шестая на листе 2413: свято учит таковая: Молю убо прежде всех, творити моления и молитвы, ходатайства благодарения за вся человеки: за царя, и за всех на власти сущих: да тихое, и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Сие бо добро и приятно пред Спасителем нашим Богом, иже всем человеком хощет спастися и в разум истиныи приити. Дозде святаго апостола Павла и святаго Иоанна Златоуста словеса: и прочая.
В вышеписанном по нам втором пункте или ответе, и в десятом доказании: писахом к вам, велеумныи Илие: засвидетельствующе, яко святая соборная и апостольская церковь, усты всех церковных учителей, отцев святых, начальствующия лица, царей и великих князей: непогрешимо и богоугодно честными титулами, а имянно христолюбивыми, боголюбивыми, православными, благоверными, державными: и прочими подобными нарицающе и почитающе бяху: яко же самая вышеписанная по нам свидетельства показуют, и явствуют. Ты же до толика разумен и безпамятлив еси: чрез всякую христианскую совесть: аки ничесоже когда видев в писании святых или от разумных мужей или от разумных мужей и учителей церковных о властех учтивая и честная нарицания: толь странно и неуветливо пишеши таковая и не стыдишися пишущь. За живых некрещеных молебны поете и прочая. О, грубости и понеже можно нетрудно разуметь, яко вышеявленная нами свидетельства и увещания не возмогоша умягчити вашего права: другая неложная и самеми делы творимая во свидетельство: яже суть.
Первое показание
Святому епископу Ростовскому Кирилу ходяшу в татары с честию за дом Святыя Богородицы. Ниже.
В тоже лето разболелся сын царя Берки, един бе у него: царь от врачев не обрете никоея пользы посла в Ростов по святаго владыку и обеща ему дары многи, да исцелит сына его. Владыка же прежде повеле пети молебны в Ростове, по всему граду: освятив и воду и пришед в татары исцели сына царева.
Слышиши ли Илие како святыи епископ Кирил, не согласуя тебе или напротив дея: за толь поганаго татарина или назвать варвара, сына царя Берки, некрещена суща, и молебны несумнително пев и воду, за ради его здравия, святив: Бог же благии хотяи всем человеком спастися подаде ему здравие и крепость: нам подая вину [образ] за таковыя несумненно молитися и всякаго блага им хотети, и желати и прочая.
Второе показание
Прииде Ахмыл на русскую землю и пожже град Ярославль и пойде к Ростову со всею силою. Ниже. И бежаша князи Ростовстии и владыка Прохор побеже. Игнатии же извлек мечь и согони владыку и рече ему: аще нейдеши со мною противу Ахмыла, то сам посеку тя: наше есть племя и сродичи. И послуша его владыка возвратися: изыде со всем клиросом в ризах, взем крест и хоругви, пойде противу Ахмыла. А Игнатии пред кресты со гражданы: и взем пеш царскую кречеты, тубы и питие, край поля и езера ста пред Ахмылом на колену и сказася ему: древняго брата царева племя, а се есть село царево и Твое, Господи, купля прадеда нашего, идеже чюдеса творяхуся Господни. Ниже. Рече Ахмыл, ты теш подаеши, а сии кто суть в белых ризах и с хоругвями, егда сещися с нами хотят: Игнатии же отвеща, то богомольцы царевы и твои суть, и да благословят тя и се носят божницу, по закону нашему.
В то время у Ярославля в тяжце недузе бысть сын Ахмылов, вожаху его на вознех: и повеле привести сына, да благословит его. Владыка же Прохор святив воду и вда ему пити и благослови его крестом и бысть здрав. Ахмыл же виде сына здрава и сниде с коня противу крестов, и воздев руце на небо и рече благословен Вышнии, иже вложи ми в сердце идти дозде: праведен еси, господи, епископе Прохоре, яко молитва твоя воскреси сына моего: благословен же и ты, Игнатие, иже упасе люди своя, и соблюл еси град свой: царева кость наше племя. Ниже. Ахмыл же взя теш у Игнатия и целова Игнатия и поклонися владыце, взыде на конь, отъиде во свояси. Игнатии же проводив Ахмыла и возвратися со владыкою и с гражданы возрадовася, и певше молебны прослави Бога.
Что к сим, вышепоказанным нами, представити хощеши: Илие, сложишилися и таяжде мудрствовати будеши, свыше представленым по нам, древним Прохором епископом и честными чиновными гражданы и согласная мудрствовати: аще ли инаку мысль на сердцы своем утвердиши, погрешиши имаши: и не грехом просто малым, но и зело великим и тяжким, и Бога благаго прогневающим, не согласным с верными древними россияны и благочестивыми.
Видиши ли спорниче: целым градом честь воздаша царю Ахмылу, неверну сущу, и с дары и почести весь духовныи чин, епископ со всем клиросом, к сим и молитвы прилежны и чиновны воздаша Господеви за ня: и священною водою, не точию покропивше царева сына, но и напоивше поганна, и благословивша осенением креста. Что такову действу последовало: не ино что: точию от благаго Бога, иже всем хощет спастися, точию здравие болезнующему сыну цареву и от тяжкия болезни свобождение: ты же не токмо помолитися за таковыя не хощеши, но ни честным словом приличным власти почтити его изволяеши: забыв апостолом реченное, емуже честь честь и прочая. (Рим. 13:7) Не являя в сицевых грубость вашея страны и крайное неосмотрение закону церковному и апостольскому: несогласие с древними чиновными христианы, с великими князи и архиереи и священники: и со всею полностию народа российскаго, со всею и прочая. Ты же самому себе последовати и верити навыкл еси, не ведыи, ни осмотрев писаннаго, горе о себе мудрым и пред собою хитрым, падают яко листвие. Притча 1: и 21. Авва Дорофей, поучение 5, лист 53.
Третие показание.
За премногую святаго [чюдотворца] Алексия добродетель и богоугодное житие всюду слава происхождаше о нем. Такова слава достиже и до нечестиваго царя Чанибека, сына Азбекова, иже имяше царицу именем Тайдулу: и та бяше три лета слепа очима и прочим недугом немощна бысть, и ни от какова врачевания ползы не може обрести.
Слышаху же о святем Алексие, елико Бог творит его ради тогда той безбожныи царь Чанибек и царица Тайдула прияша веру о нем, яко послушает его Бог молчшася. И посылает с молением к великому князю Иоанну Иоанновичу и к сыну его великому князю Димитрию, яко да послют к ним, во орду, человека Божия, святителя Алексия: такожде и самаго того чюдотворца Алексия моляху, да посетит болящую царицу и Бога молит о ней и от немощи свободит и беса от нея ижденет, и очима прозрение даст ей: ниже. Сего Божия служителя пустите к нам, его же молитвами, аще исцелеет царица моя, мир имети имаши со мною. Ниже. Великии князь Иоанн Иоаннович возвещает человеку Божию, Алексию, и молит его не обленитися, но идти ко царю. Святыи же Алексии слыша сие слово и тяжко си внят и рече: сие прошение и дело выше меры моея есть, но обаче верую, иже слепу от рождения прозрение даровавшим Богу: яко аще кто с верою просит не презрит его Бог, идущу же ему во Орду. Ниже. Слышан бысть у царя приход святаго и абие царь сретает его: и с сыном своим Бердебеком и с прочими сыны своими и со всеми князьми и вельможами своими с великою честию и дароношением: и бяше видети реченное древле лев и агнец вкупе почиета. И тако архиерей святыи молебное пение совершив и свещу воска онаго, яже сама от себе возжеся: и тамо той свещи возжжене бывши, и покропив царицу священною водою и в том часе царица [Тайдула] прозре. Видев же царь [Чанибек] и прочии с ним велможи татарстии таковое великое чюдо велми удивишася вси, хвалу же и честь велию дароваша святому [Алексию] и дары многими одариша его: купно же и всех священников, и прочих служащих святому: и отпущен бысть с миром. Дозде от жития святаго.
Чаю слышиши и верити можеши, Илие, святому и им чюдесно, и богопритно деемым: коликим преславным чюдесем делатель бысть чюдотворныи он, архиереи Алексий: и ни от себе ни собою, но помощию сотворшаго небо и землю: Спаса Христа. Первое яко прибыв, чрез надежно обрадова немощную царицу, купно же и царя: радостнотворным посещением, яко Божии сущь архиерей. Второе: яко и молитву о ней прилежну сотворь, к вышнему Царю царей, тоя ради, и от тяжкия и неудобьстерпимыя болезни свободну содела. Третие: и лютаго велиара, лукаваго врага диавола, зело томящаго ю, избави: и над всеми сими щедротам Божиими и заступлением пречистыя Его Матере, и Госпожи Царицы, царице: сладкии свет очима ея дарова, и светло и ясно зрети ю сотвори: и весь их царюющии дом от первых и до последняго раба в нечаемое удивление приведе.
Ты же христианин сыи, таковым неописанным милосердием сотворшаго всяческая облиставаем и малыя и кратчайшая о них молитвы принести не хочеши: неблагодарна себе являя, о благодатели и прочая.
Четвертое показание
Поведаю вам братия: первое един аз приидох на место сие святое. Живущаго никого же не имам на сем острове, и поставих крест и малу хижу, покоя ради телеснаго: таже молитвенныи храм, сиречь часовню. А живущии тогда именовахуся, около езера Онега, лопяне и чюдь и сташивая сыроядцы близ места сего живяху. По мале времени прииде ко мне муж, лопин старейшина, нося на руку отроча, слепо от рождения, и глагола ми: да сотвориши сего здрава и отъидем от острова сего, идеже повелевают нам отроцы твои. Аз же о словеси сем удивихся и моление сотворих о нем ко Господу Богу и Пречистей Его Матери, и взем отроча и молитвою иерейскою освятих его и покропих святою водою и приложих ко образу Владычню [и абие] отроча оно прозре: муж же той отъиде с радостию. Аз же о таковом чюдеси прославих Бога. По мале времени той же муж прииде ко мне и принесе ми нечто от имения своего и от брашен: аз же едину кожицу еленю и мало нечто от брашен взях у него, и молебная соверших о нем ко Господу. Муж же той предреченныи кланяяся и глагола ми: с тобою суть живущии отроцы, на месте сем, жен и детей наших зело биют жезлием и отсылают от места сего: и о том поведа ми, яко они слышат звон от места сего. Аз же отпустих его с миром: и о всех [сих] благодарих Бога. Дозде от жития преподобнаго Лазаря Муромскаго и Обонежскаго, бе в лето 6699{?} {1191{?}; 1391 см. жит. Дм. Рост.} марта 24.
Видиши ли [Илие] яко боголюбивая душа: преподобныи отец Лазарь от имене своего и мертв и связан толкуется: той толикии и таковыи отец не презрев лопина, суща варвара, молящася о сыне младенчище его. И молитвою прилежною помолися о сыну его и Богови Святому и Матери Его, Ея же молитвами, по гласу церкве святыя державы утвержаются: и покропив его святою водою: и не точию се, но и ко образу пречистаго Владыки Христа приложив его. И Бог благии и человеколюбивыи своего создания не презре и яко же древле от чрева матерня произшедшу слепу зрение дарова: яко и сему младенцу лопску сладкии свет зрения, яко милосерд, подаде, и отца и детища обрадованна и благодарна к домови отпусти. О, конечныя благости Твоея Христе, о, неисповедимых щедрот Твоих, и крайняя милости, на своем создании, Исусе блаже.
Ты же велеумныи Илие: и помолитися ленишися [не хощеши] и другим к той же лености виновник бываеши: к другим и прочая.
Шестый пункт зазрения.
Масло древянное в лампадах жжете и свещи от некрещеных приемлете и прочая.
Ответ на 6-й пункт
Мед, масло древяное и воск из неверных язык приходит в Россию: и покупаемо христианы в славу Божию употребляется и освящается веры ради невидимою Христа Бога нашего благодатию. Свещи же сами про себе строим и обычныя и болшия и местныя: а с торгу не купим, разве у христиан. А кои свещи от боголюбцев от Москвы или Питербурха, присланныя, по вере пославшаго, без сомнения и неиспытно, приемлем, ови местныя от белаго воска строимыя, и златом и серебром украшенныя, и различными шары, си есть красками усвечены, без омысления приемлем и в славу Божию посвящаем: и в праздники Господьския и пресвятыя Божия Матере и святых апостол и святителей и прочих святых употребляем, ничтоже сумнящеся, но за благое даяние добрых и честных милостивых подателей непрестанно Господа Бога молим, по писанному: непрестанно молитися, о всем благодарите. (1 Сол.: 5,17, зач. 273).
Ты же зазирателю [Илие] и в сицевых не умолчал еси: да не поставит ти Господь во грех такова зазрения.
Однако должен еси взаимно и ты от нас вопрошен быти. Откуду получаете и вы воск и свещи и ладан: не без свечь служиши должныи канон молитвенныи, или без кажения обычнаго всем, и масла, и свещь должное правило содеваете. Аще ли не от ангел и ты получаеши вещи таковы и в действо производиши я, но от подобных себе человек: равно и мы человеки от человек получаем потребныя вещи, но во славу живаго Бога и во свое по нам, или наше спасение творим. Аще ли паче чаяния: свечь и масла в славу Христову не употребляеши, чесо ради и ропщеши на творящия, видно показуюши себе не опасна суща, зазирающа свещи и масло и ладан употребляти в славу сотворшаго небо и землю, Давыд гласит: псалом 145,6.
Замолкни прочее с таковыми ти нравом и обычаем всему христианству не согласующим помолчи и прочее.
Седмыи пункт зазрения.
Совокупльшияся браком до познания веры по крещении блудническими нарицаете.
Ответ на 7-й пункт
Яко вся лжа от истины несть, глаголет Богослов: 1 Иоанн. 2. стих 21; зач. 71. Тем же не надлежит ти порицати [Илие] якове мы по вам совокупльшихся браком до познания веры блудническим нарицаем. Вемы убо многих не блуднически сходящихся, но чином настоящаго гражданства, в Никонове же предании и вере суще. За что или сих ради и сумнителен нам есть брак той и не достоверен ради в нем прибывших новшеств и премен, которыя и описаны во ответной книзе нашей {Поморские ответы} в ответе пятьдесятом, в статии 28. А еже ли кому случится приими во христианскую веру древняго благочестия: и несумнителным святым крещением обновитися, мужеви и жене, и тогда законно же им долженствует и обновитися православным древлецерковным чином брака. Да будут оба по апостолу в плоть едину (1 Кор.: 6) [и паки] тайна сия велия есть. (Ефес.:5;32) Но горе нам не стяжавшим грехов ради наших и стяжати от невозможных есть в настоящее, плача и слезам виновное [достойное] время, православнаго епископа, и священника: сего ради лишаемся и неволею или не хотяще таковыя преполезныя вещи и общаго всех человек блага, священства: яко збыватися писаннаму во пророце: скончатися имать рука людей освященных. (Даниил. 12) Что в збытие не ложно и прииде вещь сия. Сего ради разумнии людие и боящиеся Бога: чистотою и целомудрием украшаются, яко брат и сестра в сокровищи сердца своего благую мысль носят чистоты и тверди бывают благодати Божией, урепляющей таковыя, беззазорное житие препровождающе.
А в вашем феодосиевом согласии, яко же слышим послабляется таковым жити, яко муж с женою законом спряженною, и в грех не причитают: а законом церковным таковии не спряжени [счетани] суть. Благии таковым делателем судия правдивыи и есть и будет.
Мы же зде готовыми словесы заключаем.
Потщимся в страсе Божии, и сетовании и плачи благочестно житие препроводити, памятствуя и не забывая никогда же: во дни и в нощи, седя и лежа, в дому и в стогнах, в церквах и везде поучающеся, страшнаго и трепетнаго предстояния судищу Христову, идеже царь и князь, воин, гражданин, духовныи инок, богат и убог. Вси равне и не обиновенне истязани будут, вси до праздна слова, даже до помысла тонка и воздадят слово. Ни что же там оставят без истязания и казни ни что же бо скверно и нечисто внидет в царство небесное. А еже страшнейше, еже отчюждену сущу от Бога и обличену пред всеми: не стерпим студ и всегорчайшая мука. Ея же да сподобит нас Господь избегнути, и получити царство небесное. Дозде из книги Альфы и Омеги: о страшном суде Христове, глава 66.
Осмыи пункт зазрения
По крещении на третии день о прежних гресех исповедь чините, а не прежде.
Ответ на 8-й пункт
Благодатию Христа истиннаго Бога нашего знают в нас им же вверися знати и чины и порядок и время и како и когда и чрез кого чин исповеди творити: и совершати богоугодно во спасение человеческих душ. Ты же [подвижниче] до толика дерзаеши не опасно, яко же и обычно ти есть зазирати нашу страну, и прочим по тебе: яко и о времени исповеди душ человеческих, невинных винити ны твориши, аки незнающия, по мнению твоему, на сию и чина и времене потребна. О, дерзости и незнания конечнаго своей винности. Оглянися на свое прямое и крайное неведение: яже вышеписанныя нашея страны ответы и решения вопиют и ваше новоумствование, и со святыми древлецерковными книгами несогласное разсуждение порицают и прочее и прочее.
Девятыи пункт зазрения
Пред крещением не повелевается вами четыренадесяти дней поститися и не постятся.
Ответ на 9-й пункт
Глаголеши: аки бы не повелевается в нас, хотящим креститися, пост четыренадесятныи исполняти, яко же глашают на ны ваша уста: а нам грубым и во сне того не видится, что ваша уста на яве на нашу страну плетут. Не можеши ли поне чрез единаго по евангелию [2 Кор.: 13;10(?-1)] правдива же свидетеля представити или чрез двоих доказати или триех: без них же не может стати глагол: аще ли свидетеля не можеши обрести, яко же и не можеши, то лучше ти Павловых уст, аки Христовых, послушати, глашающих: отложите лжу, глаголите истину кождо искреннему своего. (Ефес.:4;25; зач. 227) А поне же обычно ти есть на нашу страну посягати можете, по своей грубости [дерзости], и не просто святых, но и апостолом: верховныи бо апостолов Петр не сохранив будет по вам правила четыредесятнаго, но три дни точию пред крещением повеле Клименту [последи же бывшу папе великому Риму] со Акимом и Никитою поститися, а не 40 дней, по тебе: зазри и сему, аще силен еси толику и такову сущу велику чином и достоинством, напротив тебе творящу: и таковая творяи он неповинен есть и не подлежит зазрению [вины ради благословныя, еже есть проповеди евангельския: и прения с Симоном Волхвом за истину] ибо и в нас, подобно таковым, случается и зазору не подлежит [не подаст] вещь.
Тем же престани друже подзирати и зазирати деемая во отеческом по нам состоянии и случаях творимых в разуме и правилно совершаемых во славу Божию. Однако же, яко человек, за малодушие осмотри в житии священномученика Климента папы Римскаго, в минеи четией рукописнии, месяца ноемврия, в 25 день известишися правдивыми доводы, и сам себе в таковых опаснейшии будеши, и прочии по вам.
Десятыи пункт
С мирскими пиют и ядят: а настоятели не истязуют ни исправляют и за пиянство не ползуют, как надлежит
Ответ не 10-й пункт
Напрасно чрезмерствуеши Илие, глаголя на страну нашу сицевая: с мирскими пиют и ядят и пиянствуют, дерзновенно осуждая нашу страну, от толь дальнаго разстояния не помышляя о себе, яко в толь многом народе своего согласия не аз не быти под порицанием сим пиянице какову: человецы бо суще подпадати могут, порицанию такову за мнение фарисеом сравнителное. Блюстися потреба, да не уподобимся фарисею, его же Христос Господь, во святом своем евангелии, объявляет глаголюща несмь, яко же и прочия безумныя глаголы: пощуся три краты всю десятину даю и прочая еговая. В нас же аще кому и случится, и то болшее во отлучке, погрешити [в винном напойстве] и когда ведом учинится и стязуют таковаго и штрафуют, не точию поклонами трапезными, и конечно не оставляют без исправления погрешившаго. А сверх того у нас, по всягодно неотменно, во весь великии пост, за трапезою братскою стоят на поклонах, за вся годовыя случающияся недостатки и наконец, ходяще по всем столам, прощаются, обходяще, и таковым образом очищающе совесть свою и веруют прощение прияти от Бога. Ты же, пребывая, осуждаеши всенародно, обличая невинна, себе мнящь: блюдися, да не к тебе речется евангельскии он глагол: в чюжем очеси мал сучец видиши, а в своем оце, и целаго бервна не чюеши [Матф.:7;3. Лук: 6;42]: и не точию по нам братию осуждаеши, но и настоящую старшую братию порицаеши, а самого себе не чювствуеши, в грязи вчера бывши и смертию супруги своея едва омывшася: едва и прочая.
Престани прочее судити другия недостатки: остави судити единому хотящему разсудити люди своя в правду.
Хотел бых к тебе рещи и не вем аще тебе угодно явится. Поревнуй друже возгрети давными времяны, обещанную Игнатием Трофимовым, мирную с нашею страною любовь и согласие, на чесом зависть и писмо данное ему от отец наших, по егову прошению, и обещався не сохрани ю. А писма копию миротворнаго осмотри, вложенную ниже ответных сих наших глагол, известишися верно. А друзии не ложно от вас утвержаются глаголюще: яко при самом исходе души своея ужаснувся от нечесого: повеле раздоры не имети с нами, сему и ты поревнуй о ползе согласия, да будеши подлинныи Илия новыи, благих сих ревнитель и именем и вещию.
11 пункт
С новоженами общение имеете.
Ответ на 11-й пункт
Мы уже от давных времен сия заповедь отцем нашим подражающе храним. Никакова общения с новоженами не имеем: всуе и туне зазираеши нам, всяк камень небратолюбно подвижа на ны, не веси ли, яко опасность велию имеем и уже долговременну: разве тех, которыя самопроизволно в покаяние приходят, исправився совершаются со общением, а не тако, яко же уста ваша на нас движут, не изследив, не испытав опасно в пустом мнении, аки в тумане бродяще пристанища прямаго погрешаете, си есть опасности братолюбныя. Усрамитеся братие, поне в мале глаголющаго усрамитеся: не осуждайте да не осуждени будете: и паки в ню же меру мерите возмерится и вам. (Матф.:7; зач. 20. Марк: 4; 24)
12 пункт
С мирскими ходят и не возбраняются от старших ваших.
Ответ на 12-й пункт
Нам зде живущим: несть о том известно ходят ли кои нашего согласия с мирским, в вашей стране живущии, паритися в баню или ни, нам зде неизвестно, а кои еже ли не хранят своей совести и с мирскими моются, тии чрез совестно согрешают, и мы таковыя их дерзости не хвалим. И отсюду потаки на такую их продерзость не творим. У нас, в нашей стране, того не чинится, но под великим зазрением находится, и есть. А когда, нередко случается, от мирских афицер или салдат приезжают: и потребуют бани для прохлаждения, сие нередко случается, и повелевается от больших баню на них протопить и воды, и холодной и теплой с потребу: и виник с мылом приготовить: и парятся они сами собою елико хотят, а наши за едино с ними не моются, ни парятся, тем же и вы в том совести не имейте: и на нашу страну чрезсовестно не ропщите, но паче убойтеся апостольскаго гласа, возбраняющаго: неропщите гласит, яко же нецыи ропташа и погибоша от всегубителя. (1 Кор.:10; зач. 144)
13 пункт
Тропари и кондаки за умерших некрещеных, сочинивше, говорите
Ответ 13-й
Помолчи мало смелы Илие в друзе, зримых тобою недостатков мнимых, можно видети тя, яко от неведения шатаешися мыслию и не отпущаеши, яко болезнуеши ползу себе самому мниши. Потерпи мало да известно покажем не от себе самех, но от церковных учителей, святых отец о споболении умерших своих сродник к тому же и общих всея вселенныя благодетелей: молящихся к душелюбцу Богу и не погрешивших желания своего, но благодати и щедрот Его самеми вещьми удостоишася в получении быти и насладитися. Слыши, преподобныи Иоанн Дамаскин свято учит таковая [слово о усопших]: аще и тяжестна неким вещь сия непщевася: еда{неужели} убо Фалконилу не спасе, первомученица по смерти, но равне речеши, яко та по достойньству, зане первомученица и тоя лепо бе услышатися молению. Аз же и сему глаголю добре, яко первомученица: смотри же паки о коем есть прошение, не о еллиныни ли идолослужителнице же и всячески не священне, и чюждей Господа, и беззакония делателнице, ниже. Прейди же ми паки от сих на другая, тойжде силная доказания. Ниже.
По великому чюдотворцу Макарию, всеистинне написана суть чюдеса, како сухую лбину вопрошая, яже о усопших уведев вся, таже к ней: никогда же ли убо некое утешение, рече не обретаете. Бе бо святыи обычне творя о усопших молитвы, и уведети желаше, аще убо на успех бывают. Сеже восхоте показати, душелюбивыи Господь и своего известити угодника, изсохшей лбине слово вдохну истинне: егда, рече, о умерших моления приносити, тогда утеху малую ощущаем. (Книга соборник в десть в субботу мясопустную лист 34, печать московская)
Григории, убо беседовник, старейшаго Рима епископ, муж яко же и ведят вси в святости и разуме именит: ему же глагол, служащу небесным с ним служаще и божественныи ангел. [слово 2 о Траяне царе и о Фалкониле]
Сей некогда по каменному пути шествие творя, и став со усердием, молитву крепку к душелюбцу Богу о прощении грехов Траяна царя сотвори: иже абие гласу от Бога принесшуся ему услыша сице рекшу: молитву твою, рече, услышах и прощение Траяну даю, ты же не к тому приложи молитвы о нечестивых приносити ми: и яко се истинно есть и не зазорно свидетель восток, и весь запад о сем.
Сие и Фалкониле вышереченной: она же никому же иному злом виновна бысть сей же мнозем мучеником горкую устрой смерть. Дивен еси Владыко и чюдна дела Твоя, и Твое неизглаголаное благоутробие славим, яко всегда к человеколюбию преклоняешися и рабом твоим вины подаеши, братолюбия и еже Тебе известныя веры, и прочая.
О царе Феофиле
Сего амморей приемлет Михаил, того же паки сын Феофил, иже на иконы неистовства, прочая во вторых полагающе. [Синоксарь, неделя 2, Великаго Поста; Пролог, лист 893, на обороте]
Сей убо Феофил многи от святых отец томлением и мукам различным издав, икон ради. Ниже. Дванадесяти лет самовластвова и чревным недугом объят быв расторгнутися хотяше от живота: уста его паче зело отверзошася, яко внутрь утробы его являтися. Царица же Феодора болезнена о приключившемся бывши, едва ко сну обращься и во сне виде пречистую Богородицу, Млада держащу Превечнаго, святыми обстоима ангелы, Феофила же тоя подруга от тех, немилостиво биема и поругаема. Яко убо отъиде от нея сон и Феофил мало возведеся возопи: горе мне страстному, святых ради икон биен есмь, и абие полагает на него царица богородичныи образ, молящися со слезами. Феофил убо сице имея, виде некоего от стоящих ему, икону носяща, похитив ю у него, облобызаше: и абие яже на иконы шатавшаяся уста и безстудно зинувшии гортань в первое существо претворяшеся, и держащия беды пременися. И усну исповедав добро быти святыя иконы почитати. Ниже.
По мале убо исчезает от жития сего Феофил: Феодора же иже во изгнаниих и в темницах всех возваши, и в свободе пребывати повеле. Ниже. Молитися им, да мольбу о муже ея Феофиле сотворят. Сии же веру [ея] видевши повинуются молитву творити. И иже во святых Мефодии патриарх, вся собрав от мала и до велика, причет весь и архиерей в великую церковь: ниже мольбу всенощную к Богу сотворяют о Феофиле, всем молящимся со слезами и усердием чрез всю первую неделю поста сотворяют: и самой царице Феодоре, такожде с женами и прочими содевающи людьми. Сице же сим часто молящимся; Феодора же царица утрени озаряющу пятку на сон обращшися непщева обрестися у столпа крестнаго, и нецыим спящем проходящим путь проходити различным мукам сосуды носящим. Посреде же сих водима связана царя Феофила опаки связане руце: сего же познавши последоваше и та ведущим, даже и до медяных врат доспеша. И виде преестественным образом мужа некоего пред образом Христовым седяща, ему же прямо Феофила поставиша. Сему же ногам прикоснувшися царица, о царе моляшеся: сей же помолчав много и отверз уста рече: велика ти вера жено: разумей убо, яко за слезы твоя и веру еще же и за молитву и моления раб моих и священник моих милость даю мужу твоему Феофилу: таже глагола к водящим, разрешите его и предайте жене его: таже того вземши отъиде радующися, и абие от сна востав си, убо Феодора царица, узре ниже. О пятце же патриарх узре некоего ангела страшна в великии входяща храм и к нему рече: услышася моления твоя епископе и милость получи царь Феофил, к тому уже прочее о сем не стужай Божеству: сии же окушашеся {покушение} аще есть истина зримое от места своего сшед и книгу обрете и прочет и обрете от Божиих судеб заглажено от Бога всячески Феофилово имя.
О жене мучениколюбице Клеопатре.
И како явися ей святый мученик [Иуар] и с сыном ея: поведание.
Мале ту сон нашед, упокой всяко бяше, отрок той явлься с мучеником: предстояща бо мняшеся зрети страдалца, и яко сына своего, тоя сына, в недрех имуща одеяние же обоим от преестественныя и пресветлыя вещи венцы же тех, главы сладостне украшаху венца же божественную самую рекл бы доброту, и никако же языком изрицаемую. Почто не радуешися о жено, глаголати мняшеся мученик: еда {неужели} бо сице неблагодарствен аз, и ни о чесом от иже тобою бывших приходя в чювство, или яже о них воздаяния любочестне не воздах. Первое умолих Бога, о роде твоем поганом сущем, у них же положи мя ты в гробе, и отпущен бысть им грех: а ныне не зриши ли в какове сын твой явился есть славе: какова благодать блистает на нем: что убо, но скорбное ли сие оставльши и сама прейдеши к благодушному. Ниже. Приятне быти и той к сыну и утешитися в зримых, крепце моляшеся мученику: он же иже ко спасению ведущаго пути наипаче той держатися наказоваше и конечне мир дав ко своим со отроком идяху пребыванием, и от очию оноя отступяху. Она же абие убуждьшися {смирилась}, и в себе возвратившися: какова от мученика же, и отрока пришествия благодушия насладися ту сущим сладостне изглагола, и чюдо всех имяше [услаждаше] душу ради преславнаго поведания. И о сих дозде.
Святыи Григории Богослов
О Платоне еллине написаху слово второе. [Соборник печерскии, печать московская, лист 754]
Спасе же Христос, во ад сходя, не всех, но единых веровавших. Златоуст же крепится яко никого же Христос во аде спасе и суща достойна спасению, егда умре: и аще негли веровавшии достойни явишася спасения. Каково же что и о Платоне еллине, во отеческих носится повестех, досажденьми бо он умерыи древле от некоего христианина, яко безбожен и лукав ударяем бе: во сне же представ досаждающему виновствоваше мужа яко суетне тому досаждающу: аз бо рече грешен убо быти не уво отмещуся Христу же, во ад сходящу, ни един прежде верова, таково о Платоне исповедание, аще ли же подобает веровати или ни послушателем судити оставляю. Дозде о Платоне.
О агарянине милостивом, по реклу {прозвищу} щербетенин.
[Житие преподобнаго Пафнутия Боровскаго, май, 1 день]
Глаголаше блаженныи отец Пафнутии: яко в той великии мор некая инокиня умре, и помале в тело возвратившися сказоваше, яко многих видех тамо. Ови в раи, инии же в муце от иноческаго чина и от сущих в мире: и елицех поведа и разсудиша по житию их и обретеся истина. Ниже. Изшед же оттуду и места мученаго не дошед и виде одр и на нем пса лежаща одеяна шубою соболиною. Она же вопроси водяшаго ю: господи что есть сие. Он же рече: сей есть щербетенин, агарянин милостивыи и добродетелныи, и неизреченныя его ради милостыни избави его Господь от муки: яко не потщася стяжати истинную христианскую веру и не породися водою и духом не вниде в царство небесное. Толико же бе милостив, и всех искупую от всякия беды, и от долга и пускаше, по ордам посылаше и плененныя христианы, искупуя, пущаше. Не точию человеки, но и птицы от уловльших, искупуя, пускаше. Показа же Господь [о нем] по человеческому обычаю: зловерия ради его, в песием образе: милостыни же честное, многоценною шубою обьяви, ею же покрываем избавление себе вечныя муки назнамена. Дозде о агарянине.
Из книги Катихисис иеросалимский
рекше божественныя и священныя литургии
издавшейся в Венецыи лета от Рожества Христова 1681.
[Повелением господина Христодула булгарийскаго]
В час егда поется или Достойно Есть или О Тебе Радуется, поминает в олтари иерей, яко же хощет живыя и мертвыя. Зане не точию мы живии приемлем оставление грехов, со страхом Божиим причащением святых и пречистых сих таинств: но и сами усопшии ко святому Герману созываются с пророки и апостолы и мученики соприити и поклонитися со Авраамом, и Исааком и Иаковом на тайнственней трапезе царствия Христова. Зело ползова прошения Григория Диалога ко спасению Траяна самодержца и гонителя церкве: многу ползу Фекла первомученица Фалкониле оной: многу ползу великии Макарии случившейся ему язычестей лбине: многу ползу царица Феодора иконоборцу Феофилу: кольми паче души в вере усопших православных и благочестивых ползуются и воспокояются, чрез безмерно мощную жертву Тела и Крове Христовы. Дозде из книги Катихисис иеросалимскии.
Се колики {многи} труды дал еси нам, братолюбныи Илие, яко да уверим вашея страны давное устойство, болшее же неизвестие, священных писании и действителных к ползе святыми молитвенными к Богу возношенми, творимых прошении, хотящему вся человеки спасти: непогрешивших своего желания, ищемыя душам ползы: якови суть нами в доказание представленнии святии: пастырие и учители: и преподобнии отцы и святии мученицы, кровь свою за Христа излиявшии: и царствующия боголюбивыя персоны: о них же выше, неложно, изъявихом. Вси согласно и непогрешно молящиися Цареви и Богу вся создавшему и всем спастися хотящему: и не погрешившии своего желания и ищемыя своим искренним спасителныя ползы.
Ты же: чрез крайную в себе самосостоимую незнаемость [грубость] дерзновенно страну нашу зазираеши, яко некрещеных поминают чрез тропари, по тебе, и кондаки названыя: а по нам никогда творимыя ни пишемыя. Есть ли бы ты ведал, что тропарь и что кондак: и кую силу в творьчестве содержит, не писал бы во укор и зазрение таковых имен: которыя возлагаются от творцев в честь и в хвалу точию единому Богови и святым его: аще ли написал еси во мнимую ти удачю, се обращается тебе самому в неведение, тобою пишемых имена, точию гласите, а что суть она сказать описателне не знаете. Не тропари, велеумне, не тропари, ниже кондаки, по тебе, пишем: но смиренная и кротка прошения, от души возсылаемыя, к Зиждителю всех Богу: от жалостныя и умиленныя совести, от коегождо за своего родителя или родительницу, си есть матерь: или какова любо случившагося знаменита и честна благотворителя: всему братьству и сиротьству: не дошедша же во устрой совершенства [християнства] приити, или за грубость какову, или века сего многообразныя задержки и недопуски случающияся: к тому же и различныя недоумения и мнения недопущающия к готовой и отверстой ползе приити: за таковыя келейными молитвами и поклонами и нищим добротворенми кождо по силе своей и мощи: творит. Яко да избавлен умерыи или умершая вечныя, и конца неимущия, казни, си есть мучения. В толиком и таковом разуме молитвенное наше прошение к Творцу всех и Владыце, возносится о ближних своих и святым согласное: тем же престани и не глашай чрез меру: да не прогневаем Бога всем человеком спастися хотящаго и прочая.
Дозде ответ на 13 пункт и прочия по нам доводы и утвержения, суть крепчайшия и всякаго подзрения вышшая, а вам в братолюбную ползу служащая.
14 пункт
Аки самосожегшихся и самоубившихся, за мучеников, и страдальцев законных вменяти.
Ответ на 14-й пункт
Слыши Илие, аще имаши чювства слышати, откуду возмнел еси, яко не законно пострадаша богоревнивии они, первыи боголюбивыи отец Игнатии и прочая дружина его ведомо да будет, егда вселютейшии оныи пожар гонительныи возгореся от лета [или времени] по Рожестве Христове 1666. Вина тому Никоновы новины; триперстное сложение, пятиперстное благословение, двочастныи крест, трегубая аллилуия с приглашением Слава Тебе Боже: и прочая ина. Начаша принуждаемы быти россиане к новинам оным приятием неволным и странным, дондеже лютыи той разогревшийся огнь и неугасимыи и до Олонецкаго уезда, и во вся пределы Корельския. Отцу же вышепомянутому иноку Игнатию от тесноты гонительныя избежавшу от обители соловецкия, и скитающуся исперва в Каргапольских пределех, в посаде Каргопольстем уяже древнее благочестие любящих, прихождаше и в пустыню зовомую Строкину, яже близ посада за рекою Онегою стоит, ко игумену Евфимию, любящему благочестивую всероссийскую древность [веру]: а иногда близ посада, в жила окрестныя или деревни Ольсиево имянуемо и в другия забегаша, место местом изменяя, начлег себе потребныи ищут. Егда же лютому тому огню гонителному разгоревшуся, и яко ужасныи другии водныи потоп покрыи всю землю российскую, уже и начлега сыскать стало трудно, тогда боголюбивыи отец прейде в Олонецкии уезд, чая ту обрести себе мал покой и Божиим направлением улучи внити в дом отца нашего [Андрея] родителей на место, имянуемо Повенец, и ту прият бысть и упокоився, слава Богу. И прейде оттуду в Шунгу и в Толвуйскии погост. Люди же видевши такова странна старца и от образа и нрава познаша его, яко Божии раб есть, и Богом послан бысть к ним, прияша его всеусердно и прилепившеся к нему любовию духовною мнози. Он же мало пребыв с ними отъиде с некоим братом в пустыню на Выг реку, Бога моля и пречистую Богородицу угасити той суровыи огня пожар гонителныи, и вселися близ некоего езерка, имянуемаго Батькозеро, живущу же ему; познася со отцем Генадием соловецким, иже близ нынешняго Боровскаго скита жилище себе имея, при речке зовомой Немена. И тако отцу Игнатию пребывающу с вышеназначеным братом, духовныи путь женущим {стремящимся}.
Божиим попущением, грех ради наших, возбурися паки вселютейшии вихорь, диаволом воздвизаемый [надутый], найдоша с волостей множество гонительствующих, нападоша на живущих ту рабов Божиих: отец же Игнатии бегуся ят утече, укры его Бог от руки зловерны. Братия же вси разбегошася, бе бо время жатвы и другим жнущим: поемлются злыми теми два раба Христова и ревностна суща, имаже имена Артемии и Потапии, кореляне родом: их же связавше злонравнии тии и, бивше безмилостиво, отвозят в Олонец, руки опако {вспять} связаны имуще.
Отец же инок Епифании стар сущь от внезапнаго лютых нападения, кинувся к воде и знаменався знамением крестным сниде в воду, и самого дна дошед за клочье с травою рукама крепце взявся, таковым образом и утопе, дух свой Господеви предаде. Василие же, родом каргополец, по прозванию Быков, последи зовым бысть во иноцех Варлаам, с другими пришед, поискавше добрых ревнителя, отца Епифания, извлекше от воды обретают его цела суща и ничим вреждена седяща и ключь травы в руку имуща. Удивльшеся боговразумляемой в нем ревности: и, отпевше надгробная со умилением многим, погребают страдалче тело, покрывше землею, и на том же острове, близ келии его, идеже пребывая жительствуя бяше: братия же согласная верою и до настоящаго времени, известившеся усердием его, притичеше ко гробу его поминающе панихидами и канонами удивляющеся теплому его о благочестии усердию и ползу душам своим приемлюще, отходят радостно и сим сице бывающим.
Вышереченныи же Василии, новоназванныи уж инок Варлаам, живыи в пустыни и когда нужная потреба нудящи его, хлебныя ради скудости, исхождаше в волость, к согласным ему, и оттуду возвратися весь обременен: в крошиях хлебы печены, масло и сыры и яйца, с пригохою носящь, а в руках в десной и в шуйце по порочке млека варенца носяще, и пришед в келию свою весь утружден сыи: живущая же с ним нищета искусивше ношу свесят {взвесить}, и обретается ноша его три пуда весом и иногда и вящьше, таковыми труды и тягостию томяше себе боголюбивыи он, старец, да плотьская взыграния умертвит, подражая древним отцем святым завсегда же постом и молитвами, и стоянием дненощным просвещаше себе и псалмы Давыдовыми: даде бо ся ему дар памятныи весь бо псалтырь изуст глаголаше, книги не имея в руках, и кто может исповести по ряду духовныя труды его и подвиги. И бяше отцем нашим Даниилу Викуличю и Андрею Дионисиевичю отец и советник духовныи и о сем убо толико.
Блаженныи же отец Игнатии видит на лучшее не пременяющуюся гонителную беду: и христианом умножившимся советует с нарочитыми ревнители, коим бы образом удержати в народе добрую о благочестии ревность. Дондеже не распужени от волков и не разгнани, яко овцы, по горам и холмам мужескии сонм и женскии, совет благ полагает, по реченному в совете правых и сонме велия дела Господня и прочая. (Пс.110,1) Повелевает собратися всем во едино место в Палеостровский монастырь, и по совете, и делом исполни: вшедше внутрь ограды и согласных с ними старцев и бельцев еликих обретоша удержавше с собою, несогласующих же безобидно отпустиша на свою волю. Сами же укрепивше ограду и предустроивше седоша в запоре. Окрестнии же народи, услышавше деющееся, потекоша, яко вода многа и яко речныя быстрины к намеренному месту, друг друга предваряюще, и наполнися ограда народа усерднаго и теплаго о благочестии, яко же сказуют известившиися: 2700 человек мужеска и женска пола с малыми детьми и с превозрастными, вси ревнующе умрети за древнее благочестие, мало послежде и делы исполниша Божиим пособием [Божиими судьбами].
Таковыи случай страшныи и ревность народную о древнем благочестии: Никонова мнения защитницы уведеша, собравшеся с народом мирским со оружием и дрекольми, наподобие древних июдеи, или варвар и караул учинивше, выговор творят вопрошающе: какие люди и для чего собрашеся. Они же ответ творят, яко мы, люди здешних погостов жители, собрахомся от вашего разбойническаго находу отъемлете у нас и нами от издревлехранимое святоотеческое благочестие: а напротив того предаете новое и небывалое учение, повелеваете треми персты креститися, а не двема, крест Христов тричастныи и трисоставныи отъемлете; а в того место, двочастныи предаете, и антидор свой вмещаете, а древнее причащение, тайну тела и крове Христовы поносити и отметаете: яко не может по вам [мнению] по трисоставным крестом знаменанная просфира Тело и Кровь Христова быти, яко же новотворныя и новопечатныя книги ваши утвержают. Сия и сим подобная ответствующим усердным ревнителям: они же, напротив, сумнителныи извет творят: приимите новоисправныя книги, кои исправлены добре и согласитеся с греческими и российскими архиереи и новыя тайны, под видом двочастнаго креста, без сумнения приимше, согласитеся, и милость достойную приимете. Доблии же исповедницы реша: не буди нам о Христе Царю не точию прияти Никоновых новостей, но и помыслити, лучше нам зде умрети за несумнителную благочестия целость, да живи будем животом вечным и к тому умрети не могущим. Слышавше же сия противнии постыдишася: начаша приступ чинити и из фузей стреляти безпремолчно, як же воинствующим обычно есть. Доблии же добрых ревнители уразумевши, яко конец житию их приближается благословение у отца приимше зажгоша приготованное вещество; смолье и бересто и прочая, упредивше, дабы в руки мучительствующим не впасти, огню же внезапу воспланушуся раби же Христовы с великим усердием, аки на вечерю зовомы, приличная пения тому отхождению воспевше, и времени ключимая скончашася о Господе. Мы же оставшиися поминание творим: упокой Господи душа раб своих, пострадавших от никониян на всяком месте, и учини их идеже присещает свет лица Твоего, в селех со всеми избранными твоими: и прочая.
О отце Пимине и прочих доблих
Но еще диавол, яко лев рыкая ходит искии кого поглотити: паки вооружает своя служители, на разорение людей Божиих. Отъезжают в корельския погосты, идеже отец инок Пимин, с прочими рабы Божиими жительство имеют: нападше зверообразно аки разбойники хотяще всех пленив разорити. Отцу же Пимину уже прежде о наезде оном известну бывшу: келию на то укрепивше, собрашася со всем собранием внутрь, готовящеся ко ответу: и всю братию и сирот исповедию поновив, а елицы от юных и средовечных и случившихся младенцев обрелися под новым от никониян крещением, вся тыя, возновив, крести мужескии пол и женскии. Близ бо ту случившуся, Божиим промыслом, езеру, воду имущу многу: и собравшимся людем, вечеру же тиху, сущу Иордан предустроивше, всем зрящим мал вихорец явися в месте Иордана, во устроенном остенении, а не во всем езере. Отец же Пимин видев бывшее, удивися: и прослави Бога творящаго дивная и преславная: и возгласив во услышание всем, глаголя: Братие благодарите Бога, ибо и в нужныя наши плачевныя дни, сия благодать Святаго Духа действително и видственно приходит, являяся вихром сим: и крести вся пришедшия, собравшияся во устроенныи им дом, си есть остенение, исполнише свое усердие прославиша Бога.
Выше показанныи же зверонравныи народ, приступ суров сотворше, стены начаша просекати, дабы кого можно от внутрь сущих извлещи: внутрь же сущая братия: поспешнейше начало молитвы сотворше зажигают храмину не во едином месте, поюще и воспевающе со слезами и радостно, яко сподобляет их Господь Бог за имя Его душа своя положити. Скончашася таковым образом всеусерднии, всероссийскаго древняго благочестия ревнители и православия заступницы: преподобныи отец Пимин с прочими о Христе ревнители, 1200 душ в лето от создания мира 7195-го, месяца августа, 9-го дня: в Олонецком уезде, в Корельских погостах, в месте именуемом Березовыи Наволок: вечная им память, 3 жды.
О скончавшихся в горах, под Олонцем
От тех же вышеозначенных мучителей и в том ужасном [плачевном] времени, и от тех же, дерзостнаго разбойническаго наезда убоявшеся, скончашася ревностно огнем в месте, прозываемом в горах, под Олонцем: 1000 человек мужеска и женска, здробивше [убоявше], яко человеки, да не распленени {погромлены} будут и мучимы, и не стерпевше зелности мук погрешат благочестия: сицевыя ради вины, не дождавше противных наезда, по писанному: терпящии изменивше крепость, окрилатевше, по Исайи, яко орли [п] текше и, не утрудивше себе, (Исаия, гл. 40), ревностно от’идоша с целостию благочестия к судящему всем правыми мерами, Господу Богу и Спасу нашему Исусу Христу вси всеусердно слезно вопиюще жалобная: доколе Владыко Святыи не судиши и не мстиши крове нашея, от живущих на земли и прочая. (Апокалипсис, гл. 6, зач. 17)
По вышеозначенных подвижницех, подвижница [ревнителница] некая, явльшися во время камиссии, именем Марина, в Шунском погосте. Егда вниде в погост рой солдатской и нача всех теснити ко входу церковному, да вшедше в церковь, приимут триперстное сложение: и послежде причастятся и святых таин, си есть евхаристии, еже есть причащение, вшедше дерзостно и в дом Маринин камиссиане понуждающе ю идти в церковь, да приобщитися к новости и приимет с верою новое причащение. Марине же случися в той час пещь нагревати и готовити снедная: и онем стужающим {досаждающим} ей: она же отвещевающи со спехом тещи {поспешала}. Понуждателем же в дому Мариине клети [чюланы] ея обходяще, к животам зияюще: она же свое боговлиянное, в сердце своем, намерение исполнити тщащися и тайными помышленьми Бога благаго и Матерь Его призывающи мысль ея в дело произвести, и новаго нечестия гоизнути: пещи убо у нея горящи в самой силе огня. Она же прекрестивши лице свое знамением крестным и рекши в горести сердца: Господи Исусе Христе, имати слова, помозите рабе ваю, и, закрывши лице свое убрусом, влезши в пещныи пламень ревностно и усердно: древняго святоотеческаго православия любителница умре за умершаго ны Христа, иже живыми и мертвыми обладающаго. Мучителныи же слуги, видевше ненадежно случившеся, окаменеша душею, постыдешася: между тем погощане и сродницы ея удивльшеся ненадежному случаю о Марине, в вземше тело ея умершее предаша земли: землю плод производящую и возрастающую, не в тридесять и шестьдесят, но во сто: текущую и превозрастающую в живот вечныи. (Иоанн 4,14; зач. 12)
О яже на Печере реце, за древнее благочестие скончавшихся
Не дает нам добрая ревность молчанием покрыти добляго о древнем благочестии подвижника Иоанна Анкиндинова [родом Ростовец]: мужа добродетелна и подвиги духовными украшена [и свята], содружна и добросовестна бывша отцем нашим, А. Д. [Андрею Д-чю] и С. Д. [Симеону Д-чю], по премногу житие имуща в верх реки Выга, отстоящо от общежительства 15 поприщь. Потом изволившу ему преселитися всекелейно на Печеру реку, в Архангелогородскую губернию, разстоянием отсюду вящши 1000 верст: и тамо по своему доброму усердию богоугодное житие совершающу со дружиною своею.
Исконныи же враг, диявол, позавиде богоугодному житию их, обретает сосуды сообразны своей злобе. Подходят клеветою к Холмогорскому архиерею Варсонофию, бывшему прежде архимандриту соловецкаго монастыря. Он же едва ли не слаб сыи умом, и лаком {сластолюбив} сущь к сребролюбию и тленному богатству века сего возмнев у них обрести сумму не малу. Выводится по его, Варсонофиеву, доношению камиссия от губернской канцелярии, от города Архангельскаго: и при ней немалой наряд салдат, бо афицеры, и яко на разбойников вооружени отпущаются, хотяще разорити и пленити Божие стадо избранное. Онем же яко рабом Божиим живущим [сущим] неизвестны такова на себе бедственнаго намерения, однако от начала заседания своего вместо оно и во опасение диявольскаго навета [поветрия]: предустроися ими келия и укрепися двостенна: да егда наветом врага стена едина просечена будет, другая цела соблюдется, ко управлению нужнаго часа: предустроивше же потребная смолье и бересто и серу и другая, способная к неначаянному нападению неприятелей, да егда неначаянно нападут, погрешат своего мнимаго и злобнаго лова. Такову опасность рабом Христовым деющим напрасно наехавшу воинству вражию: и острог [караул] сотворше, вопрошаются: какия люди и коею виною остенишася и во опасность себе предустроиша. Онем же ответ сотворшим: яко не за иную каковую вину седохом зде и жительство имеем, но да сохраним древнее благочестие и Бога милостива моленьми нашими о гресех наших обрящем. Архиерейска же чета [сонм] напротив отвещевающи: отмените раскольническии нрав и приимите Никоново и прочих духовных властей новоуставленное благочестие. Онем же дерзновенно отрекшим: не буди нам прочее предложения вашего слышати, лучше нам благонадежнейше с целостию благочестия, еже имеем в сердцах наших неизглажено, соотъидти к Цареви веком [Силам], и желанно и благонадежно умрети зань, да живи цели и нетленни обрящемся в день втораго пришествия Его с душами и телесы нашими. И по ответе таковом с благословением зажигают приготовленная вещества: молящеся всимилостивому Богу и пречистей Его Матери, поюще исходная песнопения во умилении мнозе и во слезах, скончашася о Господе: вышепомянутыи богоревнивейшии Иоанн с дружиною и иноком Игнатием и со инокинею Александрою и с прочими мужеска пола и женьска числом девятьдесят душ, месяца декабря, в 7 день; вечная им память.
Собравшиися же народ постыдешася: наполнивше руки своя оставльшимся имением рабов и рабынь Христовых и различными припасами съестными преисполниша ненасыщаемыя утробы своя, восвояси возвратишася посрамлени. Вышепомянутыи же епископ Варсонофии, недобросовестное свое намерение исполнив, и яко удачю вменив: вышеписанныи христианьскии и сиротьскии сонм, ни единаго зла ему сотворши, мучительски и разбойнически уби [умертвив]: на небесныя круги, и не хотя, послал: сам же, напротив, яко убийца праведным, суда Божия гневом наказуется. Рука его десная, обычай имущи благословляти народы малаксовым сложением, пятию персты, чрез всяко чаяние от перстов и с дланию до лактя внезапу очерне, яко сопуха [главня], и опохши томима бысть и жгома внутрь ея нестерпимым огнем. И лекарем иностранным, призваным к нему, ответом услыша: инако не исцелеет, еже ли рука не отъята будет по месту болезнену. Он же услыша ответ странен умолкну: по мале же времени тяжко болезновав, суровыи он и продерзыи, умре телом вкупе и душею странно.
О иже за правость веры и благочестие: скончавшихся в Олонецком уезде в месте нарицаемом Озерцах
Желательно есть нам [слышателие] и о отце Иосифе, нарицаемом Ловзуньском, и его боголюбезной ревности о древнем благочестии с прочими тожде ревнителною братиею поне, вкратце, писанием изъявити: в славу Божию и в пользу христиантскаго согласия. Сей приснопамятныи отец Иосиф, родом Каргопольскаго уезда, от града отстоящия поприщь седмь, служитель [бе или яснее рещи дияк] церковныи, человек ведением священных писании преизобилныи муж, бе великаго воздержания и писатель книжных литер многохитрыи: и свидетельствуют еговых трудов книги и до вашего времене и рук дошедшия, показующе хитрость и художество делателя; книга Евангелие Тетро в полдесть, еговою рукою написанное и по ныне между нами цело соблюдаемое, в цене десятирублевой находится, и есть не ложно. Сей и толикии бывы делатель, наипаче же всего всякою добродетелию блистаяся, живыи по Бозе, и церкви служа выну, и со служители поя и возвышая горе к Богу, и глаголя: в Церкви Славы Твоея стояще на небеси стояти мнимся, отверзи нам двери и прочая. Тем временем грех ради наших начася быти в Москве пременение книжное чрез Никона патриарха и прочих властей, согласующих ему: чрез чаяние же премена бысть и всему православию: отставляется крест Царя Славы от церковнаго тайнодействия, пременяется двоперстное благословение на питиперстное, новоустанавливается триперстное сложение за двоперстное знаменование с великим насилием во весь народ: трисоставныи крест Христов на двочастную печать новотворится: сугубая аллилуия, приглашением Слава Тебе Боже, странно и необычно отмену приемлет, и прочее все последование всецерковное, инако и инако неначаянную отмену, но вострадати ново начинает: яко видно збыватися писанному: сотворит [некто] отвержение и за прение креста, и прочая.
Сложишася тому новоначатому действию, и царския и княжеския лица с прочим народом великия России: и таковое нечаемое бедство и смущение, аки некая болезнь вниде в тело российскаго множества и неволею вся страдати и болезновати понуди.
Увы бедства и бедства гнева Божия преполнаго: кои были ревнители благочестия, тии стали быти защитницы и проповедницы новопременения, от чесого стала быти теснота оставшимся в древнем благочестии. Чесо ради добрых ревнители ови в подвиг страдания за благочестие намерение восприяша, друзии же домы и отечества оставльше разбегошася по чюжим странам. Приснопоминаемыи же нами Иоанн, оставив отечество и дом свой и покой, и странствовати, любве ради за нас странствовавшаго Бога Слова, попущается и изменяет свой вид на ся иноческии образ и бывает вместо Иоанна Иосиф, иже помножение толкуется: помножи убо еже есть умножи и распространи своим нравом и наипаче по Бозе добродетелным житием славу святоотеческаго благочестия. И по некоем времени, обретает себе согласную братию, в Курженской пустыни. Место убо оно пребысть Богом хранимо на времена не мала: в нем же церковь и олтарь древняго благочестиваго здания и ту обретает согласную себе братию: и отцев и приснопамятнаго отца Иоасафа, еклисиарха, си есть уставщика бывша Кирилова монастыря, иже на Беле езере: мужа препроста суща нравом, а житием свята. И когда случашеся отцу Досифею на некое время отлучитися места, отъежжавше бо часто в Москву и в другия городы нужных ради потреб, отец же Иоасаф время улучив первенствуя беяше во обители: и во время службы церковныя предначиная, си есть за молитвуя бяше. И в простоте живя любляше древность чина священническа и, любовию водим, патрахиль священнику на выю свою возлагая: и поручи на руки: тако замолитвуя беяше, и окончеваша церковное служение. Братия же сущии с ним, ведяще простоту [святость] его и незлобивое нрава, молчанием покрывают творимое им. Вышепомянутыи же отец Иосиф к прочим благим и полезным обретает древняго отца игумена Досифея: Тифинскаго монастыря, Николы именуемаго Беседнаго, доброревностнаго отца, вышепомянутого инока Игнатия соловецкаго отока жителя. Схождахуся бо ту ревнители благочестия мнози от различных мест и стран, духовныя ради ползы, яко древнии израильте от всего языка, яже под небесем, по описанию апостола Павла: полности ради церковныя службы и наипаче совершения ради священныя литургии: и проистекающаго от нея новаго Иордана таинственнаго пития и пищи, Тела и Крове Христа Истиннаго Бога нашего. Ея же усерднии с теплою верою причащахуся: друзии же в залог духовныи вземлюще, с верою отношаху в домы своя и страны, и хранитися таковое нетленное сокровище и ангелы говеемое в христианех и до настоящаго времене: и сим богатящеся и другим надежным преподавают любве ради Христовы.
Но доколе будем наращати историю или повесть о бедственных случаех наших, грех ради бываемых, время уже привести ко окончанию. Принеси убо, да изъявим, в славу Божию христианом случающаяся: егда прииде гонителная верным теснота: уже не имущим где скрыются раби Христовы места, от злости гонящих, принуждающих к триперстному сложению, и новодействуеемому ими причащению. Устрояют себе убежище, новохрамину, вместилище християном спасителное, общим всех верных советом, да не от сносныя беды в ню вступивше, с любезною ими целостию благочестия, не сумнително огнем жегоми скончавшеся умрут, геенскаго несветимаго огня свободни будут, милосердия ради милости Бога нашего. И сему делы бываему, и ревностию исполняему собирается рой [сонм] христианскии мужеска и женска пола, особливо же девственных лиц девиц, душ 70, умрети ревностно вожделевше, с чистою, нежели жити с нечестием временно, а во веки конца не имущаго, преданным быти в родство огненное со дияволом и со Иродиадою, нечистою и блудною плясавицею. Гонительствующии же нашедше свое деюще, вопрос творят и сурово и гордо: кто и какия, глаголюще, и для чего собравшеся в толикии сонм и многость велику [толику]. Раби же Божии отвещевают глаголюще: вы и ваши новины до толика нас истесниша: что уже вселенная, Богом нам данная во общину, малы части к сожитию нашему не дает, вашим гонителным нравом обладаема: но лучше нам временная теснота, с Божиею помощию, вытерпевшим понести, за несумнителную святоотеческую веру, да свободу и пространство со святыми в царствии небеснем обрящем, милосердия ради и милости Бога нашего.
Между тем вещество сготовленое солому и бересто и серу и смолу, с благословением отеческим запаливше во многих местех, многих рук действом, и вскоре, пламени воскурившуся, скончеваются о Христе и за Христа, добрых ревнителей, с пением церковным и торжеством сердец и уст своих, к небесным востекоша. С ними же единоревностно скончашася знатнии во усердии граждане от посада Каргопольскаго: Михаил, сын Георгиев, прозванием Кушников, нам грубым сродник, непритворныи муж бысть великия по благочестии ревности, ремеслом кузнец хитрыи: и по натуре плоти бысть мужественнейшии и храбрыи: Феодор, прозванием Двойников, и друзии знатнии от чина и художества мужие разумнии и честнии, скончавшася и Господе, лета 7197 {1689}, декабря, 4 дня, на память святыя мученицы Варвары: и преподобнаго Иоанна Дамаскина.
О скончавшихся огнем в Пудожском погосте от гонительствующих за древнее благочестие и веру
Коим словом описати имам плачю и слезам достойную повесть, ея же нелзе молчанием покрыти, ползы ради духовныя от нея проистекающия, боголюбцем.
Понеже тоя же вышеозначенныя бури остаток: с зелным вихром и шумом, еже есть варварскою и разбойническою дерзостию и нравом единаго и тогожде полка Никонова, новии варвари и безбожныя гонители от воиньствующих, и духовнаго чина: видно ненасытившеся убийственныя крове христианския, приехавше в Пудожскии погост, наченше людей Божиих и теснити и принуждати к новости Никонове: к триперстному сложению и к прочим новинам, наконец, новому причастию, под видом двочастнаго креста новодействуемому. Народи же Божии, все людское множество, яко море восколебася печалными волнами обоего пола, и мужей и жен, уже известившеся самеми вещьми таковая содеяшася, от их безстудия и неудобь сказуемая продерзости, в других местех: неминуемо и себе возмневше: разсудивше всем единомысленным собратися во едино место удобно: неже невозможно отговором каковым увещати и укротити от таковаго их необузданнаго безстудия, то лучше с целостию благочестия умрети всенародно: за всю правость древлероссийския святоотеческия веры: и по совете самем делом заключиша. Собравшуся народу и послежде исчитавше числом явися до тысящи и двухсот душ, вси в единой мысли готови умрети и души своя положити за правость святоотеческия веры: и сбысться апостольское слово, от них непогрешно рещи: позор быхом миру, и ангелом, и человеком, и таким образом предуготовльшеся богоревнивейшии к смертному концу. Внезапу найде на них, яко облак темени бурен, наеха воинство вражие: и вопросом возшуме дерзостным, вопрошая: кто и какия, и за каковую вину собравшеся в толик народ, яко збыватися псаломскому словеси, яко се врази твои возшумеша, и прочая. (Пс. 82,3) Они же отвещавше: не иная вина нашего зде собрания, но ваше мучительское и разбойническое к нам грубым прибытие, что в других местех сотворили, есте убивше и разоривше, яко разбойником прилично тое, и над нами последними сотворити хощете, но лучше нам умрети неминуемой, хотящей нам по естеству, смерти: новую ныне смертию, от ваших рук мучителных: да избудем конца не имущия геены хранимыя, еретиком и развратником и христианския веры. Безстудствующии же возшумеша гласящеся: покоритеся церкви и священному чину, архиереом и учителем новопечатных книг. Внутрь же сущая братия, к последнему уже за себе ответу, умоливше наставника своего, отца инока Иосифа: он же изшед возгласи кротким к ним, готовым, ответом: удобнейше нам господие и весь собравшиися на ны грубыя народе: испити смертную чашу, за непогрешимое благочестие: нежели прияти ваше новое и в церкви древлероссийстей небывалое новоучение. И таковая отцу ответствующу, и некто дерзыи от народа, наущаем диаволом: испусти из фузей, уби отца, кротко отвещевающаго. Его же вскоре внутрь сущии вземше: и абие во многих местех зажегше и огню воспалившуся велию, скончаваются раби Божии, песнь духовную во устех имуще, грядуще же с радостию по псалмопевцу [в горнии мир] вземлюще кииждо рукояти [мзда] своя: (Пс. 125, стих 6). Мучительствующии же отъидоша с народом посрамлени: камень и не хотяще влагают во уста своя молчания и стыда: и прочая.
О благоверном князе Феодоре и жене его благоверной княгине Евпраксии
[История Российская древняя].
Еще приложити лепо есть из истории древния или повести: о явлении святаго чюдотворца Николы великому князю Феодору Георгиевичу Рязанскому: и пророчество о нем, и о жене его, великой княгине Евпраксии, и о сыне его Иоанне, нареченном постнице. Великии чюдотворец Никола является великому князю Феодору Рязанскому, поведая ему приход чюдотворнаго образа из Корсуня града глаголя: иди княже в сретение моего образа, хощу бо сим моим зде быти и чюдеса творити и прославити место сие: о тебе же княже, умолю милостиваго Бога, да подаст тебе и жене твоей и сыну твоему неувядаемыя венцы в царствии небеснем. Ниже. Не по мнозе же времени благоверныи князь Феодор сочетавается законным браком, поемлет себе жену царска роду, именем Евпраксию, и благообразну сущу и боящуюся Бога: и тако законно сочетавшимся им и добре и богоугодне живущим, и в заповедех Господних пребывающим: даде им Бог плод чрева, породиста сына: и наречено бысть имя ему Иоанн: посем нарекоша его Постником. И тако святителя Николы о велицем князе проречение исполнися. Посем великии князь Георгии Игоревичь, посылает сына своего, великаго князя Феодора и иных князей к царю Батыю со многою и дары: моля его дабы не воевал земли Рязаньския: Ниже. Безбожныи же Батыи начен просити у князей Рязанских дщери и сестры их к скаредному своему блудному смешению. Они же сего вельми отрицающеся беша. И некто, от Рязанских вельмож, диявольским наветом поосттряем, сказа безбожному Батыю: яко благоверныи князь Феодор имеет у себе княгиню, велми доброзрачну и лепу лицем. Слышав же безбожныи Батыи и похотию скверныя плоти своея растлеваем рече великому князю Феодору: даждь ми княже видети красоту жены твоея. Благоверныи же князь, слышав словеса его, посмеяся безумию Батыеву и рече к нему: не подобает нам християном к тебе, царю безбожному, приводити жен своих на блудное смешение: аще убо ты нами преодолееши, тогда и женами нашими владети будеши. Безбожныи Батыи зело возъярився, и повеле вскоре благовернаго князя Феодора Георгиевича убити: тело же его поврещи зверем и птицам на снедение. Таже повеле и иных многих нарочитых князей убити. Един же от пестун [слуг] великаго князя Феодора, именем Апаница: зря на блаженное тело своего государя, горко плакася, видев его никим брегома: взем его тайно и погребе на нарочитом месте: и ускорив возвратитися к жене его благоверной княгине Евпраксии, и поведая ей, яко нечестивыи царь Батыи уби мужа ея, благовернаго князя Феодора. Ниже. Тогда брат благовернаго князя Феодора, великии князь Игорь Георгиевич: взем тело блаженнаго князя Феодора, цело и невредимо, принесе во град Зарасскии, и велми плакавше погребоша е честно, со псалмы и песньми, близ церкве великаго святителя и чюдотворца Николы, многочюдеснаго его образа Зарасскаго: во едином месте, с благоверною его княгиною Евпраксиею и с сыном Иоанно, именуемом Постником и поставиша над гробы их кресты каменны, яже и доныне всеми видимы суть и знаеми.
Град же той прежде именовася Красныи, последи же прозвася Зарасскии, вины ради сицевы: егда убо достохвалныи и новыи [целомудрия] исповедник, благоверныи великии князь Феодор Георгиевич, пострада от нечестиваго царя Батыя, ради християньския веры: и целомудрия ради жены своея убиен бысть. Благоверной же его княгине Евпраксии, бывши во граде именуемом Красныи: сказано же [поведано] бысть ей о убиении мужа ея, благовернаго князя Феодора Георгиевича. Слышавше же она вельми восплакася горко, о разлучении его: и в велицей печали вмени [разсуди] себе [благоверная], яко ради красоты ея посечено бысть благоцветущее древо, доброплодовитыи виноград, от поганых супостат. Помышляше же и то, яко хощет злочестивыи Батыи видети красоту [лица] ея и хотя от поганых рук его избежати: целомудрие же свое соблюсти и тело свое чисто пред Богом поставити. Стоящи же ей в превысоцем своем тереме и на руках [своих] держащи сына своего, князя Иоанна, именуемаго Постника: и в горести души своея из превысокаго терема [горницы] и с сыном своим Иоанном низринуся на землю и заразися {ударилась} ту: и прият кончину жития своего. И того ради прозвася град Заразскии даже и до днесь.
Окончание истории или повести кто убо не удивится, толь великой ревности великаго князя, благовернаго Феодора Георгиевича, яко не убояся лютаго прещения свирепаго и поганаго плотоядца, безбожнаго и нечестиваго царя Батыя: но обличи душепагубную его прелесть. Тако пострада за Христа, и от вседержителныя Его руки приим венец во царствии небеснем, вкупе и с супругою своею, благоверною княгиною Евпраксиею и с сыном своим, князем Иоанном, именуемым Постником: яко же прорече о сем [сих] великии святитель [и архиерей] Божии, Никола чюдотворец мирскии. Дозде из истории.
Заключение ответа со увещанием
Отселе надлежит ти, Илие: из вышепоказаннаго чюдеснаго действа святым Николою соделаннаго в чювство приити: и не к тому грубому своему мнению последовати. Виждь, зазору не подлежит благая ревность о чистоте и целомудрии, аще и смертным действом, си есть смертию, защищаема бывает. И не точию неподозрителна есть, но и нетленным венцем небесному царствию ходатайствена. И свидетели неложная, двоица, великии князь [приснопамятныи] Феодор Георгиевич с княгиною своею Евпраксиею и с сыном ею Иоанном, нареченным Постником. Яко оба за целость боголюбезныя чистоты и целомудрия умроста усердно и венцем нетленным удостоишася и церковию кафолическою всероссийскою вечно ублажаются, яко суще светила вторая всему миру быша, и будут в нескончаемыя веки.
Поревнуй и ты, Илие, благодати толицей: от Бога давшейся им, и долговременныи нрав свой устойства отмени: не буди самосомневаяся таковому случаю спасительному [или яснейши рещи] судбе Божией спасительной, да жив будеши во веки животом вечным, конца неимущим, его же да сподобит ны всемогии Господь Бог, создавыи наедине сердца наша, яко же свидетельствует Давыд. (Псалом 32, стих 15)
Нужда нам понуждает ны засвидетельствовать о случаех плачевных, бывших в Москве и прочих градех российских, за грехи наша Богом попущаемых: и о дерзости безбожныя литвы и поляков, и о поругательстве над християны, мужеским полом и женским, и над святыми вещьми, иконами и ризами священническими, и пеленами с нашитым на них образом честнаго креста, и до прочих всех вещей. И о ревности по Бозе мужеска пола и женска, за чистоту телесную: многообразно самех себе убиваху, да не осквернени будут от поганой литвы, и безбожных поляков и изменников русских.
И из повести (месяца июля, 28)
О чюдесном явлении и гласа от образа пресвятыя Богородицы во граде Смоленске святому мученику Меркурию: во время нашествия поганаго и безбожнаго царя Батыя: [и из минеи рукописной копия или выписка]
В лето 6753 {1245} злочестивыи бусурман, злонравныи и ненасытныи кровопиица: христианскии гонитель и разоритель: и всякия диявольския преисполненыи злобы, царь Батыи? видя православных християн изнеможение, помысли раззорити благочестие и искоренити православие. Умысли злыи кровопиица идти на град Смоленск: идучи из русския земли, плененных ведоша во своя страны. А сие умножися на нас за беззакония великия и лютыя грехи: и мерзскую нечистоту блудную: за что от вседержителныя десницы Божия послаша на ны великия беды и разорения градов. Ниже. Бысть же тогда Божиим церквам оскудение и запустение люто, яко и дивиим зверем плодитися, за оскудение людей, и смиришася грады, и монастыри святых разорени быша, без пощадения: иереом тяжки вериги на выях бяху и нужныя горкия смерти, инокам и инокиням лютое и немилостивое поругание и посечение. Ниже. Исполниша они нечестивии варвары русскую землю сквара {нечистота, мерзость} и дыма злобожнаго и нечестиваго их закона, и кровопролитие творяху: младенцы ссущия отторгоша от пазух, недр матерних, о землю ударяюще, а иныя оружием прободяху. Оскверниша же, чистоты девиц растлеваху, и брачных жен разлучающе от мужей, и честныя невесты и инокини оскверняху блудом. Мнози же тогда, от православных: сами резахуся и смерти приимаху, дабы не осквернитися от поганых, а потом смерти сами себе предаваху. А кои иноки во едином месте живут и тех работами облагаху, и стражы быша им: и вино и пиво строяху, и кормы готовляху, и стада пасяху. Иереов же умелива и у возов, и у дровосечества моряху, и блудниц стрежаху: и работаху им, воду носяще и порты скверныя мыяху им, и ругающеся повелеваху им песни срамныя пети, и скакати, и плясати. Иноков непокоряющихся смерти предаяху. Ниже. От зверей убо сих и от злых делателей бегаху мнози без исповедания, и кроме святых таин умроша, и священный чин потреблен бысть. Ниже. По всей земли всяк возраст, всякаго чина: овых с башен высоких градных долу метаху и иных с берегов крутых в воду мещуще и иных связавше и из луков и пищалей стреляюще; иным голени наполы преломляху, у иных же чада изхитивше, на огни жаряху, пред очима родителей; а иныя от сосцу матерню и от пазух отторгающе и о землю, и о праги {пороги}, и о камень, и о углы разбивающе убиваху; а иных на копия, и на сабли взоткнувше, пред родителями ношаху; жен и девиц на блуд взимаху. Мнози же сами зарезывахуся, дабы не осквернитися от поганых: и инии же в воду мещущеся с брегов высоких утопаху. Ниже. Сия видевше, мужественныи сердцем рыкнувше умираху: друзии же, не могуще зрети рождьших у беззаконник в блуде, сестр и братии на смерть предаваху. Мнози холопи ругающеся госпожам своим, связавше мужа или сына, или брата, пред очима их студ содевающе, не пощадеша враги и маловозрастных юноток, но и тех растлевше, и милостыни нагих пущаху просити, крови текуще срамной и власом ободраном сущим: инокини же растригаху, и по станом влечаху и скверняху блудом, и нудяху мясо ясти, и в постныя дни сыр и млеко веляху ясти. Нечестивии поляки и изменники, вземлюще святыя иконы местныя и царския двери и сих мостяще под скверныя постели и блуд на них совершающе бяху, и прочая.
Надсловие вышеписанных
Еже ли случилося ти, Илие, вышеписанных в России бедств и во всем государстве российстем истории читати действително; аще ли ни, поне от слышания старших, негли {не-ли, может быть} известился еси когда: аще ли может бысть ни от кого, мы тебе за любовь и пространьше известим не на словах, но писменно представляюще.
Виждь коликими и каковыми напастьми бедственными искусися благополучныи российскии род, и колики беды и напасти прият за безмерность греховную, си есть нечистоты и скверны блудныя, яко же выше известися. За что равномерно и наказася праведным гневом Божиим: разорения градов, сел и слобод, и домов, и пленении, и смерти: и над всеми, себе и женам, и детем безчестная ругательства и безчисленныя казни. Но целомудрении и боящиеся Бога, познавше своя грехи: и Божии праведныи гнев, и в чювство приимше: против нечистоты и слабости возпротивльшеся мужеством: и Богом вразумляеми, ови зарезывахуся себе самых, да гоньзнут {избавятся} скверны телесныя: ови воде предаяху себе самех и утоплению, и таковым странным концем и ужасным себе самых пользовавше, скверны плотьския гоньзнуша, истейше же рещи {сказав}, душевныя пагубы: и последующих той, вечных мук: по писанному: блудником и прелюбодеем судит Бог (Евр.,13,4).
Ты же, брате, на своя руки посягшия судиши, яко бы сами себе убивше, самоубиицы мнятся, неприятни и церкви, и помяновению, по вам: суду. Но вышесоделанная их по Бозе ревность сопротивляется тебе и вашему саморазсуждению: понеже не просто, ниже кроме разсуждения, ревность соделавши, велеумнии они и Христовы раби и рабыни: и смертную чашу испивше: но ради препохвалнаго целомудрия, да не осквернятся скверною греховною, ужасно судимою и праведным судом Божиим по Апостолу: блудницы бо и прелюбодеи царствия Божия не наследят. Сии же добрых ревнителе, нечистоты греха смертию ревностною по Бозе избывше самех себе резанием и в водах истоплением, и с берегов ужасным падением, подобно древним, и прежде их бывшим, соделавше, скончашася о Господе.
Таковым десным по нам разсуждением сеть порицателная раздрася, и истаявше погибе, и мы по писанному избавлени быхом: помощь наша во имя сотворшаго небо и землю (Пс., 123).
15 пункт
Книгу во оправдание прилагательнаго имене счинивше, да отложат:и отложити должно есть.
Ответ 15-й
О прилагателном
Вышеписанныи наш ответ о прилагателном имени, в доказаниях 6,7,8,9 и 10 изъяснися выше сего доволно, негли уже и видел еси, и разумев: и не ползе тебе мимо тещи, не осмотрев его. И аще видел еси его и разумев: должен еси по нему десная дати нам: и к тому не любопретися на крайныи от страны зазор, и самому и прочим по вам, но лучше есть и похвалнейше мирное и любовное возъимети житие, и вышеписанным по нам свидетельствам согласующее да и о нас негли исполнится реченное от Спаса Христа: мир Мой оставляю вам, мир Мой даю вам (Иоан.,14;27). Дозде о прилагательном.
16 пункт
Самомнимое имеющееся в неких посредство взаимное друг ко другу в средних вещех несоглашение.
Ответ 16-й
На посредства сумнителная
В малых некиих грубии неции от братии вещех не согласуются един другому и иногда и в церковных обрядах: eвещаваемы, мало умягчившеся и минув неколико время, паки тожде толкуют и бредят, и хотя недерзновенно некако: но сами себе и своему нраву обыкше, последующе находятся. И сами подвижни некако и кротцы правилу церковному и келейному усердни суще: но негли со временем Божией благодати поспешествующу им, пременят свое мнение и общему и согласному во всем нраву и обычаю святоотеческому да согласятся, убоявшеся апостольскаго гласа, громко глашающаго: Блюдитеся от творящих распри и раздоры (Рим.,16) и паки, и да не суть в вас распря (1 Кор.,1;10). Дозде о раздорах и несогласиях.
Из псалтыри толковыя, преводу преподобнаго Максима Грека, песнь Триех Отрок:
Сущее: Благословен еси Господи Боже отец наших и препет и превозносим во веки: и благословено имя Cлавы Твоея Cвятое, и препето и препето и превозносимо во веки: Благословен еси в Церкви Святыя Славы Твоея, и препето и препето и превозносимо вовеки.
Иоанн Златоустыи: Славы имя есть, Божие имя: аще бо Царь Славы имя есть, и победителныи, и елицы таковая. Множае паче, имя Божие: абие бо возставляется душа слышавши, абие Творца разумеет. Аще же имя Славы, множае паче существа: Господь бо и Вседержитель и Человеколюбив, и Благ: и вся таковая имена, Славы имена суть.
Из евангелия учительнаго, в неделю по Рожестве Христове, лист 458. (печать при патр. Иосифе, лета 7160 {1652}):
Евангелие: Яко да збудется реченное от пророк, яко Назорей наречется.
Толкование: Сказуетжеся Назорей Водящии и Святыи Божии, и Свет: обаче же и Святыи Израилев нарицается. И Даниил же Свята Святым нарицает Его.
Из рукописнаго апостола толковаго, превода преподобнаго Максима Грека, от зачала 21, о небесном и божественном звании Павлове:
Сущее: Идущу же ему и приближающуся к Дамаску, внезапу облистаему светом с небесе, и пад на земли, слыша глас глаголющь ему: Савле, Савле что Мя гониши. Рече же: кто еси Господи. Господь рече: Аз есмь Исус, Его же ты гониши: но востани и вниди во град, и речеттися что ти подобает сотворити, и прочая.
Толкование Аммониево: Почто не явися ему во Иеросалиме, почто не в Дамасце, яко не подобаше инех и не ко онем поведати. Видев бо Исуса и не терпя множества света, окаменися зрителное души и живителное. Тем же и мня очи имети не видяше, и уста имея не ядяше дондеже верова Анания глаголавшу ему слово и исцелися. По вере убо начат видети, прочее крестися и тако пищу паче духовную прият, тем же, подобно есть, паче крещати прежде, и потом пищу подаяти. О человеколюбию Владычню, Бог человеку беседует: что Мя гониши рече: Отцу своему подобится. Он бо народу еврейскому глаголет: людие мои, что сотворих вам или что оскорбих, или озлобих, отвещайте Ми. Сице и Сын Его Савлу глаголет: Савле, Савле что Мя гониши. Что же он отвеща: кто еси Господи, абие Владыку исповедует. Видиши ли душу благоразумну, кто еси Господи. Аз есмь Исус рече, Его же ты гониши. О премудрости Владычней: почто не рече ему: Аз есмь Сын Божии, Аз есмь иже изначала Слово, Аз есмь седяи одесную Отца: иже зраком Божиим Сыи: иже небо пропиная, иже землю основавыи, иже море прострыи, иже ангелы сотворивыи, иже везде сыи, и вся исполняя: иже прежде век родився. Почто ради не рече честная она и великая, и высокая: но Аз есмь Исус Назарянин, Его же ты гониши: от долняго града, от долней веси, места занеже не ведяще гоняй Его. Аще бо бы ведал Его, не бы убо гонил, яко от Назарета бе ведяше не ведяше, яко от Отца рожден бе, и Сын Божии есть. Аще бы убо рекл ему Аз есмь Сын Божии, иже изначала Слово: рекл бы убо, ин есть он, и иного аз гоню, несть сей распныися. Но да уведет тако Оного гонит, воплощшагося, зрак рабии приимшаго: с ними пожившаго, умершаго: погребеннаго. От долняго града суща глаголе: Аз есмь Исус Назарянин, Его же ты гониши, Его же видел еси, Его же познаваеши, с тобою пожившаго. Сего ради абие владычество исповеда: сниде толико, елико раб взывати можаше. Ниже
Толкование Златоустаго: Почто же не изначала се бысть, но потом да явится, яко воистину воскресе Господь. Гоняй Его и не веруя погребению Его и воскресению, откуду бы убо веровал, аще не бы была многа воскресения сила: иже бо сице весуяи {вися}, яко и крови изливати, и в темницах влагати, внезапу верует; иже ко архиереом пришед, и писания прием, связаны ученики Христу приводити: се ныне Владыку исповедует. Славы имя есть, Божие имя, аще бо Царь Славы имя есть, и Победителныи. И елика таковая: множае паче имя Божие. Абие бо возставляется душа, слышавши, абие творца разумевает: аще же имя Славы множае паче существо: Господь бо Вседержитель и Человеколюбец, и Благ: и вся таковая имяна, Славы имяна суть. (Златоустаго из псалтыри толковой, прподобнаго Максима Грека)
Из книги Златоструя от слов святаго Иоанна Златоустаго:
От 11 псалме: И о словеси реченном в деяниих. Бысть же на утрие собратися старейшинам их, о хромце седящим у красных врат. Оле, лукавство и злая зависть: кто виде коли о недужнем исцелевшем, врача досаждаема, кто виде о добродетели человека, добросотворшаго котораема. Ниже. Егда воля Божия немощному повеле исцелити, тогда вы на врача вины сплетаете: обаче разумно буди всем вам и всем людем израилевым, яко о имени Исус Христове, Назарянина Того, Его же вы распясте, Его же Бог воскреси из мертвых, о Том Сей стоит пред вами здрав. Ниже. Что твориши блаженныи Петре видети есть, яко неполну имаши любовь к Богу: пред ним Сына Божия исповедал еси, а без Него Назарянина наречише: ей рече ругаемаго ими имене воспоминаю, да болшую им печаль сотворю: о имени Исуса Христа Назарянина, Его же вы распясте, Его же Бог воздвиже из мертвых, не мните Его уже на земли живуща, о Том Сей стоит пред вами здрав.
Из минеи четьи, декабря, в 23 день, от жития преподобнаго Нифонта:
И се им глаголющим и минующим стогмы {улица, площадь}: и сретеся с ними человек скача с сопельми {гусли, флейта, свирель} и послушаху его. Ниже. И се муж зряще из полаты стоя, и той стречем {уязвлен} от сатаны и повеле пред собою ставши свиряти {играть на свирели} и всех плескати руками, бесом угодие творяще. И нача скакати, и вземь даст {муж} сопельнику сребренницу. Он же {музыкант} ю прием вверже во чпаг {карман} свой, беси же изъемше изо чпага сопелнику, пустиша ко отцу {сатане} в бездну, и реша лукавому бесу сице: иди рцы отцу нашему великому, тамо связанному Назарянином: се ти жертву един от князь пусти {прислал}, нарицаемыи Алазион. Ниже. Иже приим лукавыи взыгрався рече: от кумир аз жертву приемлю, но не могут мене обвеселити, яко же приносимая от християн: си рек, мерскии он, сатана, паки возврати вспять сребро и медь сопущему {музыканту} осквернив я своим омрачением, рек духу пронырливому: да растет по силе мое, всех идете же и побеждайте грешныя назаряны. Инако не могут нарицати Господа нашего Исуса Христа, но Назарянина Исуса.
Из благовестника, Лука, гл., 24; зач 114, лист 252, на обор.: Она же реста ему, яже о Исусе Назарянине, яже бысть муж Пророк силен делом и словом пред Богом, и всеми людьми.
От толкования: Виждь какову малу о Господе мысль имяста, мужа бо Пророка и непщеваста, яко же Илию, и Исуса Наввина, или Моисея рещи, силна делом и словом.
На Корсунских вратах
R H O E
Рекс Ностер Ест
Царь наш есть
и
Рекс Назореус Ест
Царь Назореанин [Назорейский] Есть
На распятии Антония Римлянина из Рима принесенном
I H S
X P S
Толкование слов верхней строки:
Иудекс Гониум салуатор
Судия Человеком Спаситель
На те же слова:
Исус Гонинум Структилис
Исус Человеком Зиждитель
На те же слова:
Исус Гостиум Супетанс
Исус Врагов Победитель
Толкование нижней строки:
Христус Пекката Сусципиенс
Христос Грехи Вземляи
На те же слова:
Христус Потенс Салвере
Христос Могии Спасати или Спасти
На те же слова:
Христус Пропициатор Симулакрум
Христос Очиститель Кумиров
На другом Антониевом с Риму принесенном распятии
X H S
I P —
Толкование верхней строки:
Христус Гомо Субстанциалист
Христос Человек Существенный
На те же слова:
Христус Гуманитатис Сусцептор
Христос Человечества Восприятель
Токование нижней строки:
Исус Провидиус Салутис
Исус Промыслитель Спасения
На те же слова:
Исус Пеккаторум Салватор
Исус Грешных Спаситель
А ныне у латин на распятиях пишут
I N R I
Исус Назоренус Рексус Иудеуск
Исус Назарянин Царь Иудейскии
На Москве в Соборе Благовещеньском имеется киот, исполнен панагии архиерейских сребропозлащенных: в них же на коейждо изображен чеканным художеством Крест Христов, трисоставныи с подножием и дщицею, с копием и тростию, надписание имущь: Царь Славы, Исус Христос, Ника. На иных надпись Исус Христос, Сын Божии, и прочая. На других точию Исус Христос, надпись. А таковых крестов преисполнен весь киот. При тех же панагиях совложены и настоящих архиереов панагии имеющия надпись пред древними приложену, четыре литеры сицевы: I Н Ц I; си есть Исус Назарянин Царь Иудейскии, подобно латинским и немецким, и лютераньским распятиям.
Из Барония, лето Господне, 304, Констатия и Галерия, 1:
Описует святыи Василии Великии страдание Варлаама, его же мучители руку десную на огнь возлагаху и вместо олтаря употребляюще ея, кадило на ню метаху, дабы оное кадило, огнем палимая рука, на олтарь повергла, и богом возмнелася {почтила}. Но он руки не подвиже, донележе вся от огня истаяла: и не можаху ниже сердца его, ниже руки к жертве диавольской победити.
Той же Василии похваляет и Улиту мученицу в Кесарии. И егда некии сребролюбивыи поганин от Улиты имение отъимаше: она пред судом законом защищашеся. Но поганин рече, яко защищения от суда не имат, аще прежде Христа не отречется. Она же имения и здравия лишитися избра, и во огнь уготованныи с великою радостию вскочи.
Лето Господне, 39, Константии, 4:
Максимиан великия своим творя, и жен честных сенаторов своих насильствуя, повеле игемону своему римскому: дабы ему свою послал, ея же красоте ведяще. Сия бе христианыня, Софрония именем: муж ея, страха ради, соизволи на оное повеление: и испросила себе Софрония поити в камару {свод, кров}, аки хотящи украситися, и рабынею девицею, возвести глаголя, да будет таковыя христианы приятны мучителю: и тамо заключившися и Богу вручившися, от надхнения Духа Святаго, острым железом прободе сердце свое, и мертвыи труп мучителю остави.
Такова же бе во Антихии Пелагея, девица млада, яже произволи низврещися с горы и разбитися, нежели осквернитися от неверных, иже ю на нечистоту похитити хотяху. О сей пишет святыи Амвросии, похваляя велие мужество ея, еже и Златоустыи святыи, яко единостранец ея творит. Тоя же Пелагии мати, пишет Амвросии, ведома к судии, изволи паче утопитися в некоей реце, неже впасти со дщерьми в поганския нечистыя руки, на погубление чистоты. Еже и Евсевии воспоминает: несть сомнения; яко на сие имяху особое надхнение Духа Святаго, яко же и Августин показует.
Баронии: лето Господне, 331: Константина, 26:
Моляшеся Донат, а Бог будто ему с небесе отвещеваше: толикая гордость его, яко на игемонов кесарских, и на самого кесаря лаяше, при таковом и толь гордом вожде в сицевое неистовство приидоша донатисты, яко себе новое мученичество, им же бы у народа прославилися, обретоша си есть, убиение самых себе: повергахуся с гор, падаху в огнь, и потопляхуся в воде, аки бы за веру, и за Христа, а единомыслении их вместо мучеников освящаху. О сем на многих местех глаголет Августин, и толикое юродство, ересь, приводит, еже и между погаными не бе: сами наказоваху себе, и грехи своя, егда от Церкве святыя отпадоша, в ней же молитвы иных помоществовати им можаху.
[Андрей Д-ч, копия]:
Известие странным братии, пришедшим ради мирнаго состояния, с ними же беседовахом от святых писании, и по желанию их, и других братии, введение общесогласное, и примирение извествуя.
Понеже пустынножители прияша обычай от древлеправославныя церкве имети на животворящем Кресте подписание, по древлецерковным святым обычаем, и кресты медныя лити с древних обрасцев, с староцерковными подписании. О сем премножайшая, древлецерковная святых свидетельства имеем. А како о Пилатове написании во святем евангелии, и в прочих церковных книгах писано, тако и приемлем, а своего предания от тех святых словес, чево тамо не написано не изводим, и не предлагаем, и от других своеразсуднаго предания не приемлем. О сем премногая древлецерковная святых свидетельства: и противо неистинных наношении ответствования достоверная на беседе вашей любви явихом: чесо ради нам готовому святых преданию последовати надежно есть. А о оной, Пилатом написаной, титле, воображали ли ю в древлеправославней церкви, четырьми буквами, святии на образех крестных: о сем достоверных свидетельств ищем: того ради и писати, тех четырих букв, до поданнаго свидетелства, советовати опасение имеем, понеже от древних святых воображенны не обретаем.
А когда прилучится нам быти в странных христианех, и обретающимся у них животворящим Крестом, с подписанием Царь Славы, Исус Христос, Ника, аще и титла на тех же крестах, четырми буквами воображена, и тем животворящим Крестом поклонение творим, и инем советуем поклонение творити: о чем у нас и прежде на общей беседе писмом извещено.
И о сем вашу братскую любовь молим, еже вы потщание имеете; на староцерковных крестах подписание обыскиваете: благоволите о сем доброе и боголюбное радение имети: яко же соборне в Стоглаве Православная Церковь повелевает; святыя иконы, и подписания с древних преводов воображати и древлецерковная святых известная начертания во образец и во свидетельство возъимети. А от новинов соединения, от них же мы всяких тайнодействии опасаемся, со строенных от них иконных и крестных начертании, и на них подписания, чтоб каким неведением нам во свидетельство и во образец не прияти, и по преданиям их не быти: но яко же в прочих тако и о сем древлецерковными святых достоверными свидетельствы утвержатися, а о чинех молитвенныя службы, яже мы прияхом от древлеправославныя Церкве, и наипаче древлесоловецкия святыя обители, о сем вашей любви на беседе явихом, и от святых писании и иноческих обычаев засвидетельствовахом.
Наше некия и разныя чины обрящутся в том друг з другом разгласия не имети: но кому с ким прилучится приходити имети соглашение, и распри не чинити. Да мир Божии будет между христианы. Аминь.1727 году, августа, 5 дне написася.
На пункты ответы против Ильи Ковылина, феодосиева согласия
1) О титле на кресте, I Н Ц I,
2) О начальствующих лицах, отитлуюя благоверных,
3) Яко сами некрещени и других не покрещеваем
4) Некрещенных умерших поминаем и псалмы говорим
5) За живых некрещенных молебны поем
6) Масло древяное и свещи от некрещенных приемлем
7) Браком совокупльшияся до познания веры по крещении разводите
8) Исповедь по крещении на 3-й день чините
9) Пред крещением не повелевается вами 40 дней постится
10) Ядят с мирскими, настоятели не истязуют
11) С новоженами общение имеют
12) В баню с мирскими ходят
13) Тропари за умерших некрещеных говорят
14) Самосожегшихся за мучеников причитаете
15) Книгу прилагательнаго имени счинивше
16) Сами между собою несоглашение и разсмотревше
* Приложения
И. Филиппов. Описание о нелепых случаях и необычных пустынному житию действах, внесшихся от своеволников
Описание о нелепых случаях и необычных пустынному житию действах, внесшихся от своеволников
Егда пройдоша от зачала сей пустыни и общежительства назад лет тридесять или менши, до преставления сей пустыни и общежительства настоятелей наших Даниила Викулича, Андреа и Симеона Денисьевичев, найдоша в сию пустыню во время распространения петровских и повенецких заводов по указом, что велено принимать и поселять для заводских работ, рудоискания и здымки, а овое о хранении древлецерковнаго благочестия от гонительства, спасения ради своего. С ними же найдоша в покрытии староверства от окрестных ближних городов и мест своим лукавством внидоша в сию пустыню своеволников всяких и беглых от напастей и бед и от тяжких платежев, и от частых салдатских наборов мужескаго и женскаго полу, старых и молодых людей болшая доля, что приемлюще их без разсмотрения и без общаго совету, не разсмотряюще и не испытующе их добре. А овые к себе приемлюще свойства ради, а инии работ ради сперва в наймы, чтоб пашни распространить богатства ради и наживления. Овыя же и своеволно болшая доля сами поселишася, понеже стало некому их возбранять, что лесные жилцы стали разные друг от друга в немалом разстоянии.
И от таких самоволников умножися в сей пустыни всякого своеволия и безчинства, разбоя и татьбы, и крадения, и лукавства, и ненависти, и гнева, и пиянства, и скареднаго, сквернаго жития, поста нехранения и мясоядения и всякаго безчинства и лукавства наполнены, не о спасении пекущеся, но время пробавляюще, похотение свое лукавое исполняюще. Умалися истина от сынов человеческих по пророку, а умножишася беззаконнующих и лукавнующих, и своеволников, и безчинников, и безстрашников, а спасающихся умалися. И возбранити их безчинству некому, что оные безчинники еще до приезда коммисии и Самарина доношениями и всякими клеветами на возбраняющих и спасающихся искали себе способы в Москве составлением толвуйскаго дьячка Халтурина и прочих подобных тому и в Новгороде, и в концеляриях, и в Синоде, и на Олонце, и в Питербурхе, чтоб хранящих древлецерковное благочестие, спасающихся, разорити и искоренити, и разогнати, а своеволие приняти.
А по приезде Самарина и при взятии Симеона Денисьевича с прочими за караул и в жестоких допросах наипаче прияша своеволие и самочиние. И по отпуску из-за караулу и при немощи, наипаче и по смерти Симеона Денисьевича, во время стояния комисии, во всякие своевольства и самочиния и в разное толкование, и в свое-мнение не приходяще к церкви ко оставшим еще ведущим писание и не вопрошающих у оных писания, что святии о сем пишут, премудрии учители заповедали. Не умеем так языков своих обуздати, чтоб от них не страдати, не можем так уст своих удержати, чтоб с собою и церкви не обезчестити и не навести гнева на всех христиан прежде времени. Хотя и до старости живем, но не знаем еще, яко время есть (по Соломону) всякой вещи, время молчати и время глаголати. Не вытвердили еще и того, что Дух Святый накрепко заповедал чрез своего избраннаго сосуда Павла апостола: В премудрости ходите ко внешним, время искупующе. Слово ваше всегда да бывает в благодати солию растворено.
Но у нас не тако разсудилося, якоже у святых. И они о сем времени часто воспоминаху и друг у друга вопрошаху: Будут ли тогда иноки или христиане и спасутся ли? Но глагола: Будут. Дел же иноческих и христианских, якоже мы, не будут имети, но спасутся напастьми и бедами, и гонениями, а овые и страданием. Аще и малые будут спасающийся, аще кии постраждут и претерпят доблественно напасти в правой вере спасаются и болши первых мучеников будут, аще и мало зело токмо будут спасающийся. И кто не видит коль лют есть враг наш диавол всякими бо коварствы покушается всеяти в сердца человеком свое лютое лукавство. На всех последних христиан и тул свой испроверже, якоже святии о сем последнем времени пишут: В вере пребывающих не имеющих крепких пастырей над собою, яко овцы заблуждения разглашаше и раздираше на разное согласие, овых разженною христианскою ревностию, овых человек не разумеющих и не изыскующих истинно писании, свое право разумеюще и друг другу не повинующеся. А овых человек не разумевающих его лютаго коварства и тщится осталых изгнанных и утесненных и малых христиан еще содержащих древнее благочестие и спасающихся от благочестия и спасения отторгнути.
Но не попусти Господь сего выше меры и силы нашея, а свое злокозненное лукавство меж христианы всеяти, а овых клеветники на церковь и на всю братию учинишася, а овых же в своеволие прельсти враг в ненависти и во вражды введе, а овых высокоумием и непокорением друг ко другу. А иных в нехранении заповедей христианских и пустынных, и отеческих преданий и поста, и целомудрия, и чистоты в нехранение улови. А овых в слабость и в ласкосердие и во объядение и в сластолюбие вверже. Других же в наживание богатств и в ризное украшение и в гордость отведе, и друг другу в несклонение и непокорение. А овые в беззаконное и в мерзкое, блудное, зазорное житие и нечистоту вверже и во всякие похоти плотския. О них же срамно есть и глаголати.
А овых в неправедные суды и в клятвопреступление, а овых в пиянство и в винопитие, в крадение и в разбой низложи и всех тщашеся в пропасть вринути и погубити и друг на друга всякими коварствы, ненавистию, небратолюбием и немилосердием дыхати велит. И платежами и окладами себе легчити, а на другаго наваливати, и на сирот, не имущих дневныя пищи. А сироты бедныя не по сиротски жити начаша. Какую где копейку смыслят и то мужеский пол на кавтаны хорошие и полукавтанья, и на курпеки, и на кушаки, и на счапление неподобное. А женский пол такожде на сарафаны и на ряски, и на шушуны, и на шубки хорошие употребляют. Овые китаечные шубки и сарафаны, и сукманы однорядочные, а овые хорошие крашенинные и перевяски широкие камчатые покупают, а овые китайчетые и на покроми широкие и на платки шелковые не по христианскому и пустынному обычаю возлюбиша жити. Но паче мирских украшеющеся оба полы, яко на браки готовящеся друг друга, яко удицею ловяще и прельщающе. Друг другу путь указующе ко блудодеянию, друг друга живо ловяще и вкупе диаволу предающеся. Грех же содеян раждает смерть. И от того по всем скитам, мало не по всем келиям, родимницы друг ко другу относят и подкидывают своих робят не к своим келиям. Грех свой и срамоту свою закрывающе. А овых по келиям зыбки. А о иных писати срамно и боязненно для нынешнего времяни. Но сие оставляю и молю всех к лучшему наставлятися.
Аще Бог сего не возбранит, может он, содетель, вся возбранити и к лучшему устроити молитвами всей Российской земли страдалцами за древнее благочестие и всей пустыни пустынных жителей и отец, и братии к Богу отшедших. О коликое зло творит непокорство! О какова пропасть есть непослушание и неповиновение к старейшим! О каково зло своеволие и похотение! Не от сего ли умроша праотцы наши? Не от сего ли в смерть поползеся все естество земнородных? Не от сего ли пять градов Содом и Гомор огнем геенским згореша? Не от сего ли израильтяна в пустыни погибоша? Не от сего ли вся земля всемирным потопом потоплени быша? Не от сего ли братия наша ста[ро]верцы в Нижнем и во псковщины на Ряпиной мызы у Феодосия Васильевича за польским разоришася? Не от сего ли и мы беднии страждем толикия напасти и толикими сокрушаемся злоключеньми? Яко и честь, и слава наша, и вкупе самая жизнь к падению клонится, своим волям и своим похотем последующе, не слышаше, яко похоть раждает грех. Отсюду умножишася различныя страсти и смертныя грехи: крадения и разбои, и хищения, пианства, нечистоты, студодеяния, завести, вражды, лукавства и всякое беззаконие.
Изнемогоша начальствующий, утрудищася правители, оскудеша премудрии мужие, умалишася возбраняющий бесчинию. Овыя, кому бы возбраняти и правити грех ради наших, отъяшася от нас, к Богу отъидоша. А Симеон Денисьевичь после караула весь год на постели немощьствоваше и смертию скончася. А овые оставшии страха ради и боязнию и грозою от самоволников возбраняеми, овые избегоша, а овые крыющеся страха ради, не смеюще никому возбранити и запретити. В последнюю нищету доидохом грех ради наших. А овые своими недостатками и своим непостоянным житием возбраняеми, овые же своим зазорным житием и себя не могуще правити, стыдом покрываеми. Како иных могут правити и возбраняти? А овые своим молчанием проводяще, боящеся остуды и напасти не возбраняюще и правящим не помогающе. А овые и друг друга свождающе и покрывающе, и заступающе, и попущающе и у правящих своим безумным заступлением волю отнимающе.
Понеже умалися истинна от сынов человеческих, а умножишася беззакония. Умалися добрых и спасающихся, а умножися беззаконных и своеволных, что наполнишася в сию пустыню и найдоша всяких своеволников и всяких беглых от напастей и бед и от салдатства внидоша в сию пустыню своим лукавством в покрытие староверия, что оных приемлюще без разсмотрия и без общаго совету, не разсмотряюще и не испытующе. А овые к себе приемлюще работы ради в наймы сперва, чтоб пашни распространите богатства ради и наживания. А овые и своеволно силою крыющеся и по лесам живуще, своеволие творяще, похоти своя исполняюще. Молодые люди, взяв себе девку, зговоряся, и живяше по бусормански, а овые и по скитам, взяв девки, зговоряся, и отшед подале, в волость, зговоряся с попом, бутто венчашася, окупив писма себе от попов. А овые и венчашася, дав попу, чтоб бес присяги венчал. И пришед в скиты на своя места, живуще з женами по мирски меж христианы или в домех своих своеволне протчим всем на соблазн, не имуще страха Божия, что их никуды не спрашивают, никаких податей с них не берут, а оные и не платят, а пашнишка пашут тут же. Инде им тако своеволне и беззаконно жити им невозможно. Все сие таких посылаше враг наш диавол, не могий терпети христианской молитвы, к Богу возсылаемой.
Посылаше свое злое лукавство и коварство на прельщение прочим спасающимся и на искоренение, и на поношение, и на укорение церкви и християнству, и пустынному житию на потребление, чем бы Бога раздражити и прогневати и немилостива к бедным последним спасающимся христианом сотворити, что овое зло творяще своволне никого не боящеся, а овии молчаша, боящеся их. Овии же осуждаша. И иннии же своеволники и безчинники клеветами и доношениями и допросами в неудобные места синодским властем объявляюще свое безчинное житие. Многие из них образом девы, а делами блудницы и сами в комисию прихождаху, а овых беремянных поймаша и привождаху и допросами свое скаредное житие и на прочих подобных себе показываху. А овые и на правых по гневу показываху. По тем допросам посылки посылаху и сыскиваху, овыя попадаху, а овые укрывающеся и бегающе по лесам, а овые закрывающе. А комисией сие с радостию приемлют, тем кормятся, допросы в дело приемлют и в Синод посылают. А из Синода к вышним лицам и в Сенат доносят, чем бы ея императорское величество к староверцам и к сей пустыни немилостиву быти и властей всех немилостивых же устроити и учинити к конечному разорению, чем бы мощно Синода на бедных староверцов возъярити.
И что ми далная зрети и о чюжих злых жалостию снедатися, егда и своих безчиний не могу описати. Самое бо наше общежительство исполнилося суть всякаго своеволия и бестрашия. И елико беды нас окружают, толико мы нечювственни являемся. Елико врази клевещут на матерь нашю святую церковь, толико мы и сами ю досаждаем своими злыми делы и бесчестие себе собираем. Кто благоговейный и богобоящийся не восплачет и не возрыдает нашего неисправления зря, наших страстей греховных множество в нас воюющих?
Первое бо злое явися у нас во время самыя напасти, неких из нас нерадение о молитве, леность, уныние, небрежение о своем спасении. Бог бо Человеколюбивый и Преблагий Владыка наш посла на нас наказание свое с милостию и щедротами, дабы мы воспомянувше своя грехи покаемся тепле и плачем, и рыдаем, омыем свой кал греховный. Но мы ему нечювственнии противное творим, не токмо плакати не хощем, но и самое правило молитвы презираем. Не токмо не каемся о своих гресех со слезами, но и во время слез и покаяния грехи ко грехом прилагаем. Коликия явишася бестрашники и безстрашницы некий в нас, яже не входят на общее сопение и молитву в храмы молитвенныя? Коликия отлучаются и собора церковнаго лености ради небрежением и безстрашием. Полунощницы презирают и заутрени оставляют, к часам не приходят, вечерни и павечерницы ни во что же вменяют. Глаголют ли, яко в келиях молимся, но житие их свидетельствует, яко не суть молитвенницы. Сказуют ли, яко и в чюланах поем, но нравы их являют всем, яко, аще и тщатся бдети, егда время пети, но не Богу бдят, творят бо, еже хотят по своей воли.
Второе зло перваго не меншее возрасте — окаянное сластолюбие. И тако укоренися и расплодися, яко не толико есть в трапезе ядущих по чину, елико в келиях бесчинно. Сперва от малых, коим за немощь сказывают попущено и кои не в братствах живущих имеющих свои собственныя денги и запасы. И от того и прочий научишася, смотря в келиях друг на друга. Всякая келия девическая имеет свою трапезу. Во всяком чюлане постниц особныя поставляются столы, болшия образ бывают меншим: сказывают свою немощь, а меншия же подобятся болшим и вси работают своему чреву, вси последуют своим хотением и волям. Презрены суть заповеди общаго жития, уставы прежних блаженныя памяти отец забвению предашася: закон о трапезном благочинии празднуют у нас за наше небрежение и великую слабость ненадсмотрением болших надсмотрщиков и надсмотрщиц, что сами стали слабы и немощны.
Третие безчиние и безъобразие привниде — презрение целомудрия, нехранение чистоты, несоблюдение девства непорочнаго. Аще и лежит заповедь Божия во Евангелии о хранении очес от зрения нелепаго на женский пол, а женскому на мужеский. Но есть, аки предел уничтоженный, аки граница преложенная, аки преграда разоренная. Тем же и уставы прежния святых отец и предварших настоятелей наших презираются и уничтожаются. Начало сея беды бысть мужескаго пола к сродницам хождение, а потом умножися и к чюжим безстудная дерзость. И тако сим безстудием осквернися всекрасное целомудрие и от того в неких умножися богомерзское студодеяние и дерзость, а в прочих разслабление и соблазн всему чистому постническому житию препятие.
Ненадсмотрением и слабостию надзирателей и надзирателниц над службами, кои в которых приставлены, что оным ослабевшим и красоту целомудрия презревшым, а наипаче в привратной келий, идеже братия сходятся с сестрами, презирается данное от отец уставное повеление и данное надсмотрителем писание. Частыми нелепыми и неблагоговейными сходами и долгими уединенными беседами, что и не свой друг з другом свидаются и писмишками друг со другом совещаются и в познание приходят не з ближними сродницы, коим и сходитися не повеленно, неприлично и неполезно. И от того погибе благоговение, умножишася беседы душевредныя, возникоша безстудия дерзости и бесчиния, откуду девству многоценному произыде конечное тление. И якоже при самой киновии таковый соблазн умножися, тако и на отхожих службах, на сукосечках и на сенокосах, и на палопрятках, и по ягоды хождением везде и повсюду, где им и сходитися не повелено и писанием данным запрещено. От ненадсмотрения надсмотрщиков презираются чины, от чего бывает целомудрию повреждение и чистоты нехранение. Едины сети простре диавол и нам, невидящым кознадейства его, сами впадаем во мрежи его и увязаем в них и обряща и брашно бываем толикому врагу в снедь.
К трем вышеписанным прелестем и четвертая приплетеся. Не хранится чиноположенный киновийский пустынный писанный закон, но разоряется ризное, глаголю, украшение. Разгоревшуся во обоих полах огню сквернаго желания, не употребляется вода от слезных потоков на погашение, но прилагается дрова прелестных красот, от них же высочайший возгарается пламень похоти плотския. Победился ли кто страстию блуда? Не молитву приемлет, не постом томится, не трудами смиряет плоть свою, не слезы пред Богом проливает, не помощи от Вышняго просит, но абие безумный ищет себе кафтаны делати щепеткия от сукон лучших, шапки строит непростая, всячески промышляют своеволием неблагословным, яко бутто брачному времени приличныя. Полукавтанья ищет получше по своему намерению, аки жених. Обущей требует не худых, но избранных и новых и кушаки пестрыя, хорошие, дабы мог показатися хорош женскому полу, яко добр есть и угоден или тако рещи, дабы познали его и смотрели бы на его, яко хорош есть, аки жених и раб афродитин.
Оле прелести вражия! Оле безумия нашего! И девы же творят подобное: украшаются постницы не целомудрием, но ризами, украшаются не стыдением, но вещественными красотами, украшаются не кротостию и благоговением, но одеждами добрейшими — сарафанцами и свитками, и шубками, и рясками, покромцами широкими и треушками с пухами широкими, и перевязочками широкими, ступенцами щапливыми и чулочками белыми, яко бутто на браки, на прельщение прочим, не по-пустынному обыкновению. По своему желанию всячески промышляюще без благословения. Се ли красота общежителей и пустынный чин? Се ли постниц состояние? Се ли покаяние и слезы, и стонания достойная? Се ли утварь постников и постниц? Ах нашего неразумия и безстрашия Божия! О ней же плакати и рыдати лет есть разумным и нечто высочайшее паче нас мечтающым. Вся бо сия не толико из сокровища вземлются общежительнаго, но своеволием всячески смышляюще (и сие самое лихоимство есть) но множае делается таким образом, каковаго и описати бесчестия ради невозможно есть.
На сие ли изыдохом из мира и из градов, покинув домы и своих родителей презрехом? Сие ли пустынное киновийское постническое житие? Сие ли целомудрие и смирение? От сего ли чистота постницам и спасение содевается? Никакоже. Ах нашея слепоты и безстрашия Божия, воистинну глаголю, от сего всякое содевается безстудие и несрамление. От сего о молитве нерадение и посту несохранение, и сластолюбие, и чревообъядение, и тайноядение. От сего леность, неможение и слабость, и несмирение, и к болшим непокорение и непослушание. От сего гнев и ярость, и всякое безстудие, и дерзость, и всякая вражда, и ропот, и клятвопреступление, и зависть, и злопомнение, и похощение возрастает и заповедем Божиим противление и презрение и отеческим законом нехранение, и всему монастырьскому и пустынному житию разорение, и о братских трудах небрежение и нерадение. И от сего татьба между собою и крадение, от сего грехи и всякое беззаконие содевается, от сего гнев Божий на нас возрастает и посылается. От сего всякие беды и напасти окружают ны, от сего жезл наказания посылается настоятелем и пастырем от нас отлучение и отъятие и овцам расхищение и погубление.
Ах нашея беды и неисправления! Како не устрашимся сего наказания Божия! Како не восплачем и не уцеломудримся сего пришедшего на нас гнева Божия! Како не поминаем и не читаем в древних историах, яко забыхом, како Бог не пощаде согрешающих первых родов еще до закона при Нои общим потопом всю землю потопи и погуби. И в Содоме и в Гоморе согрешающих не пощаде, огнем геенским сожже. Израильтеских из Египта изведе чрез Чермное море, аки по суху. А последи за преступление и согрешение на пустыни всех погуби и изнури, овых огнем пожже, овых земля пожре, а овых змий поядоша. И в Иерусалиме частое пленение и разорение и в Вавилон отвезение и посечение после и конечное разорение. И славную монархию Царьград и всю Палестину за согрешение и преступление заповедей Божиих предаде проклятому турку, худу и малу языку и незнающу Бога. Помянем и о руской земли, о московском разорении и о всей России. Како пострада от поганых царей и от поляков и от прочих язык. Како смириша и разориша, и пожгоша при цари Василии Шуйском за согрешение людское. О сем посылаю читателей самих читати на русскую историю и на Степенную книгу. И поминаем и мы беднии сие часто и читаем, и внимаем. Не щадит наш милостивый Господь, наш Исус Христос согрешающих, а не кающихся может наказати, аще и долготерпит, но и наказует.
Еще помянем мы беднии в сия времена про свою братию староверцов в Нижнем и на Ряпиной мызе, во Псковщине и в Копорщине, и за полским рубежем, за своеволное и беззаконное, скаредное житие и за пиянства и за всякую нечистоту, и за частые споры, и за разсечение разных согласиев и несоветиев. Како расточи и разогна, а овых и от благочестия отлучение сотвори и всех разори и расточи, аки вихром развея, и всех искорени.
Убоимся мы, беднии, в сей Выговской пустыни, последний христиане, от гонителей озлобляемы и от диавола и от бесов уязвляеми. Но отселе смирим себе теплым слезным покаянием и своим обещанием, возопием во Владыце нашему Богу всенародным восклицанием: „Помилуй нас, Господи, помилуй. Не предаждь нас до конца, имени Твоего ради, не разори завета, не остави милости Твоея от нас, не сотвори по делом нашим и грехом, якоже сотворил о вышеписанных, но сотвори по милости Своей».
Но увы нашему неможению, егда по псалмопевцу оскуде преподобный, егда умалишася истина от сынов человеческих, егда добрии они делателие винограда Владычня отъидоша ко Владыце прияти мзду по своему труду, тогда в винограде богоспасаемаго нашего жительства возрасте терние миролюбных нравов и обычаев. Умножишася древеса злая, творящая плод достойный вечнаго огня, страсти и греси, аки пламень возгорешася студная и нечистая дела, аки запаление лютое возшуме. Вражды, зависти и ненависти, аки жала змеина во многих явишася. Отсюду клеветы ложныя ко властем произыдоша, отсюду доношения неправедная от своея лжебратии не точию в канцелярии, но и в Сенат и в Синод на крайнее разорение пустыни умыслишася.
Попущающу Богу, действующу же диаволу. Отсюда бед множество и напастей треволнение и злоключении неутишимая буря воста, претящи живущим в пустыни разсточением и конечною погибелию. Отсюду на святыя уставы хула, на книги поречение, на истинное благочестие — ненависть, на содержащих отеческая предания — бесчестное имя расколников и гнев, и ярость, якоже на самыя злочестивыя еретики и богохулники. Отсюду учреждение коммисии от Синода и всеопасное изыскание и прилежное испытание, и долговременное следствие всех пустынных действий и дел, и обычаев, и нравов, и содержаний. Негли обрящется правилная вина, ея же ради пустыня, аки гнездо змиино до основания разорится.
Но обаче и еще свидетельствует Выщний Бог с высоты святыя Своея, яко вера наша свята и благочестива есть и предания, яже содержима, не от еретик, но от апостол и святых отец свое начало имеют, ибо в таковых лютых бедствах, в таковых страшных напастех всебогатою Своею милостию покрывает и спасает нас, аще и за грехи наказует, но за православную веру щадит и милует. И, яко чадолюбивый отец, злонравныя своя дети вкупе биет и утешает, вкупе, иже злом поражает и рукама Своима отеческима объемлет и любезно лобызает. Якоже и апостол с причотником глаголет: Его же любит Господь, наказует. Биет же всякаго сына, его же приемлет. И аще наказание терпите, якоже сыном, обретается вам Бог. Аще ли без наказания есте, ему же причастницы быша вси, то убо прелюбодейчиша есте, а не сынове. Обаче плоти нашей Отца имехом казателя и срамляхомся. Немного ли паче повинемся отцу духовному и живи будем. Они бо вмало днии, якоже годе им бе, наказоваху нас. А сей на ползу, да причастимся святыни Его. Всякое бо наказание в настоящее время не мнится радость быти, но печаль.
Последи же плод мирен научением, тем воздает правде, тем же ослабленныя руки и ослабленная колена исправите и стязи правы сотворите ногама вашима, да не хромое совратится, но паче да исцелеет. На сия апостольская словеса святый Златоуст сицевое творит толкование: Убо суть Божия сия (сиречь наказания) и сие же ко утешению несть мало, егда навыкнем, яко Божие дело есть, еже сицевым разрешитися возмощи оному попущающу. Якоже и Павел глаголет о сем: Зрищи Господа ) молих и рече ми: довлеет ти благодать моя, сила бо моя в немощи совершается. Тем же он есть попущаяй, его же бо любит Господь, наказует, биет же всякаго сына, его же приемлет, не имаши. Рече, рещи, яко есть кто праведен сый скорби кроме, аще бо и тако является, но мы не вемы иных скорбей. Тем же всякому праведному нужда есть скорбию ити.
Отвещание бо есть Христово, яко широкий и пространный путь отводит в погибель, тесный же и прискорбный — в жизнь. Аще убо оттуду есть ити в жизнь, отинуду же несть, убо тесным вси внидоша путем, елицы к жизни отъидоша. Аще наказание терпите, рече, яко сыном, вам приносится Бог. Кий бо есть сын, его же не наказует отец (аще наказует, убо во исправление но) не в муку, ниже в томление, ниже в еже злострадати. Зри, отнюду же непщеваху оставлени быти от сих, рече, веровати им, яко не оставлени суть, якоже бы глаголал, понеже толико пострадаете злая, непщуете, яко оставил есть вас Бог и ненавидит, аще бысте не страдали, тогда подобаше сие непщевати. Аще бо всякаго сына биет, его же приемлет. Не биемый (негли) несть сын. Что убо рече, злии страждут ли зле, страждут убо, како бо ни, но не рече, всяк биемый — сын; но всяк сын бием бывает. Но не имаши, рещи, суть бо биемии мнози и злии, яко мужеубийцы, разбойницы, чародеи, гробокопателе, но тии своея злобы приемлют казнь и не яко сынови биеми суть, но, яко злии мучими. Вы же, яко сынове, зриши ли отвсюду движет умышления от вещей сущих в писании, от глагол, от своих разумов, от указаний, еже в житии сущых. По сем паки и от общаго обычая.
Аще же без наказания есте, его же причастницы быша вси, убо прелюбодейчища есте, а не сынове. Зриши ли, яко (еже рех рекл) несть не наказуему быти сыну, якоже бо в домах о прелюбодейчищах не радят отцеве, аще и ничтоже учатся, аще и не бывают славни, при искренних же ради сынов боятся, да не разленятся. Сие и в настоящем, аще убо еже не наказоватися, прелюбодейчищь есть, подобает радоватися о наказании. За не убо при искренности сие есть, яко сыном вам приносится Бог. Дозде священнаго Златоуста словеса.
И аще по апостолу: Его же любит Господь, наказует, аще биет всякаго сына, его же приемлет. Аще по Златоусту: не есть праведный скорби кроме. Аще Бог есть попущаяй скорби, аще скорби суть тесный путь Христов, вводящий в живот. Аще вси святии сим путем в жизнь вечную внидоша, Аще Бог, яко отец, наказует во испраление, а не в муку. Аще несть не наказуему быти сыну. Аще еже не наказоватися, прелюбодейчищь есть, а еже наказоватися сынов возлюбленых. Убо и мы; древнее святоцерковное содержаще благочестие и апостольским и отеческим последующе преданием, нужду имеем терпети отеческое наказание. Да будем Всеблагому Отцу сынове возлюбленнии, да будем страстем Христовым сопричастницы, да будем апостольским болезнем и мученическим страданием сообщницы. Да со всеми святыми и праведными тесным и прискорбным путем внидем в живот вечный. Тем же и в бедах должни есмы радоватися, яко настоящими бедами безбедную получим жизнь и в напастех подобает нам веселитися, яко напастей огнем искусившеся, злато красное явимся и в царьская сокровища взяти будем, и образа царева достойни обрящемся.
Но разсмотрим еще, за что терпим напасти, за веру ли Христову или за дела наша злая. Аще убо за веру терпим, блажени есмы и треблажени, яко Христовым путем шествуем и крест страдания Его носим и страстем Его сообщаемся, да и славе Его причастницы явимся. Аще ли же за злая и беззаконная дела страждем, не точию не блажени, но и окаянни есмы, яко начало болезнем терпим. И по сем вечныя скорби, непрестанныя болезни и безконечное томление приимет нас, ибо и разбойники, и убийцы, и татие, и гробокопатели, и злодеи, и душегубцы многая зло страждут, но не венчаются. Аще ли же кто и спасется от них, но покаянием спасется, а не злостраданием своим, ибо и со Христом распятый злодей покаянием рай обрете, а не смертию своею.
За что убо страждем? За веру ли святую или за дела беззаконная? Но како можем и помыслити, яко за веру страждем! Ибо и Синод, и коммисия, и канцелярии не веру нашу следствуют уже, но дела. Вера бо наша еще при императоре Петре Великом изследована есть и следствию оному конец учинен есть. Ныне же следствуют житие наше, дела и аще безчиния наша, беззакония наша. Тать ли кто обрящется, сей не за веру страждет, но за татьбу и страданием своим спастися не может, токмо покаянием. Блудник ли кто обличится и нечто злопостраждет, не за веру постраждет, но за блуждение свое и страданием не спасется, токмо покаянием. Безчинник ли каковый ят будет и напасть претерпит, не за веру претерпит, но за безчиние свое и терпением своим не спасется, токмо покаянием. Подобие и о всех злобах разсуждати должни есмы. Аще бо кто за злобу свою страждет, таковый не за веру страждет и страданием своим не спасется, токмо покаянием.
Кто убо за веру страждет от нас? Воистинну мало видим таковых страдалцев. Ибо, аще кто и не за явное законопреступление страждет, не за татьбу, не за разбой, не за гробокопательство, ниже за блуд, ниже за ин каковый-либо смертный грех; но токмо за неисполнение должности своея, ею же обязуется властем предержащим, но и таковый нарицается заплетшийся мирскими винами и за тыя страждет, а не за веру и страданием своим спастися не может, токмо покаянием спасется. Ибо, аще и явных злодейств не имеет, но имеет тайныя некия грехи, о них же еще не покаялся есть и за непокаяние свое оставлен бывает от Бога и впадает в различныя напасти. И аще и вся злая постраждет, не спасется, аще покаянием, слезами и смирением, и сокрушением сердца, и обещанием к тому таких грехов не творити, не умалит Всемилостиваго Человеколюбца Бога. И се видим, яко есть нам надежда спасения, понеже веру православную содержим и апостольская и отеческая предания соблюдаем, токмо должни есмы покаятися истинно и дела покаяния сотворити, и смирением истинным умолити Спасителя Бога.
Тем же, братия возлюбленная, аще хощем спастися, не на веру токмо надеемся, ниже страданием нашим похвалимся, но и покаяние истинное покажем и молитву прилежную к Богу принесем. Покаянием бо и молитвою подобает спастися нам. Аще доныне во гресех пребыхом, ныне грехи отложим и от сердца покаемся и спасени будем. Аще в блудех и нечистотах пожихом и в кале том доволно поваляхомся, ныне поревнуем блудному сыну и блуднице и покаянием теплым от греха, аки от далния страны возвратимся ко отеческим объятием и слезы вместо мира принесем Спасителю Христу и спасени будем. Аще доселе во гневе и злопомнении пребывахом и клеветами и завистию друг друга угрызаем, отселе познаем, яко гнев отлучает нас от Бога.
Гневаяй бо ся на брата своего всуе, повинен есть суду и гневливый, аще и мертвеца воскресит, не приимет его Бог за гнев его и путие злопомнящих в смерть ведут. И клевета есть художество диавольское. Тем же вместо гнева милосердие приимем, вместо зависти и злопомнения любовь стяжем, вместо клеветы благохвалению научимся и спасени будем. Аще доселе гордостию и величанием ходим, ныне помянем, яко перст есмы и в перст возвратитися имамы и не высокая мудрствуем, но смиренными ведущеся и кротости, и смирения Учителя Христа по силе нашей подражати потщимся и спасени будем. Аще доныне жестокосердечни и немилостиви бехом и утробы щедрот не имехом, отныне воспомним, яко суд немилостив есть несотворшим милости и яко пять дев буих немилосердия ради небеснаго лишишася невестника.
И такови милостиви и человеколюбиви будем к братиям и другом, якова и сами хощем Владыку видети и спасени будем. Аще ли же и в лености пребывахом доселе и ум помрачен имехом страстьми и молитвы частыя и прилежныя Богу не принесохом, ныне умилимся и возстенем и помолимся всемогущему Владыце. И правило церковное и келейное со всеусердным тщанием совершати начнем и спасени будем. Силна бо есть и действителна святая молитва и толико может, яко и бесы изгоняет. Ибо сам Христос Бог глаголет о бесох: Сей род ничим же исходит, токмо молитвою и постом.
Молитва есть оружие на бесы. Молитва есть мечь на диавола. Молитва есть стена от всех бед и напастей, молитва есть щит от стрел вражиих. Молитвы началник есть сам Владыка Христос, ибо обычай имяше часто молитися и во время молитвы показа на Фаворе славу Преображения Своего и неизреченна сияния Божества святым Своим учеником и апостолом и прежде предания Своего прилежно моляшеся и на кресте, паки моляшеся и святыя апостолы учаша молитися, глаголя: Бдите и молитися, да не внидете в напасть. Тем же и апостоли часто и прилежно моляхуся и молитвою дивная чюдеса сотвориша. Подобне и мученицы, и преподобнии отцы выну в молитве пребываху и вся верныя непрестанно молитися поучаху.
Отсюду церковь святая имеет предание и обычай семижды в нощеденьстве молитися. По пророку глаголющему: семижды днем хвалих Тя, сиречь в вечер, в полунощи, по утра в первый час, в третий час, в шестый час и в девятый час. И аще Христос, врачь душам и телом, не требуя не единаго врачевства, врачевство молитвы показа и сам всех молитвы приемлющий моляшеся, нам образ дая. Аще апостоли непрестанно моляхуся и молитвами чюдеса творяху преславная и бесы изгоняху. Аще и наши отцы и настоятели, их же в повести сей помянухом, на всяко время по обычаю церковному молитвы совершаху и во всех своих бедах и напастех едину крепость, един щит, едино забрало — прилежную к Богу молитву. Убо и мы, грешнии и недостойнии, должни есмы всегда усердно молитися Всемилостивому Владыце, аще бо Христос всех спаситель молится, аще святии молятся.
Кольми паче нам грешником сущим молитися подобает, за не ниже из напастей избыти, ниже спастися возможно есть немолящемуся. Потщимся убо всегда во уреченное время прилежно молитися со страхом Божиим, с верою и надежею, и любовию, и со истинным покаянием и постом. Да человеколюбец Бог приимет молитву и покаяние наше и избавит нас от настоящих бед и напастей и спасет нас, яко мытаря покаявшагося, яко блуднаго сына возвратившагося, яко блудницу слезившую и яко разбойника веровавшаго и исповедовавшаго. Да и мы всебогатою благодатию Христа Бога спасшеся, получим обещанная благая и прославим Его со Отцем и Святым Духом во вся веки. Аминь.
А. Денисов. Слово надгробное Петру Прокопьеву
Слово надгробное блаженныя памяти боголюбивому Выго-пустыннаго общежительства Екклисиарху Петру Прокопиевичу; сочинено того же общества господином Киновиархом Андреем Дионисиевичем.
Кто есть человек (возглашающу пророку) иже поживет и не узрит смерти. Кто от Адама рожденных, земля еси и в землю паки пойдеши Адаму реченных избежати возможет. Кто смертных страшнаго сего смертнаго таинства восприяти не воздолженствует. Ельма убо, о боголюбивая чада пустынная, потаися от нас церьковнаго благолепия торжественник; скрыся от нашею очию любезный боголюбия ревнитель; покрыся смертными облаки братская красота; умолча язык сладость слова Божия точащий; затворишася уста молитвы соборныя к Богу и святым его мироухающая; зайде сладкий нашего зрения свет; скрыся от очию нашею любезная свеща; взяся в горкия сия дни пустынное утешение; скончася в скорбное сие время раб Божий Петр, бодрый служитель церковный. Чесо ради никто зде от боголюбивых возможе сие разлучение понести без жалостнаго сердца, никто без скорбныя души, никто без плачевнаго лица. Вси же жалостными уязвишася сердцы: старейшии возскорбеша, церковнии восплакаша, общежители возслезиша, скитяне возрыдаша, сироты восхлипаша; вси же возтужиша таковаго усерднаго красителя церковнаго, таковаго разженнаго слову Божию служителя, таковаго ревнительна к делу Божию тщателя и в скорбных случаях вселюбовна утешителя, и в напастех скора молитвами вооружителя, и тепла всех к молитвам возбудителя. Тем же убо неправедно нам мнится быти таковаго слову красителя без слова гробу отдати, и якоже в земли тело, сице в молчании жизнь его скутати, и ниже любви духовныя, ниже родственныя воспомнити, и лишити себе же и прочия любовныя сладкаго того изображения, и якоже незрим есть телом, не зрети его душевныма очима оставити. Аще бо грубейшие от поселян умершия своя частыми воспоминании повествуют, и поселянская его дела, елика или в ратайстве дивна, или в ловительстве чудна, или в домостройстве им мнится добра, та вся высоко вещают и друг другу проповедуют, и на гроб приходяще, и друг другу любовнаго своего показующе, дела его и словеса возвышают, много себе теми повестми утешение устрояюще. Не много ли паче нам, мужа сего в духовных подвизех от юности усердно подвизавшагося и многия сладости и любви духовныя нам виновнаго словом изобразити должно есть; не яко да он воспочтится, не требует бо сего смиренная она душа; но да мы словом изображена его, яко жива зряще утешаемся и поелику возможно пользы наслаждаемся, и воспоминающе любовно любовнаго нашего любви точителя, любовно на поминание души его воздвигнемся; чесого у нас ныне, якоже саморучным его писанием, сице душею его просит и желает и любезно приемлет. Убо всежалостная чада церковная, понеже любовными вашими пламы скорбите и желаете достойнаго желания сего мужа зрети же и беседовати с ним; приидите ныне отрем слезы от очию нашею и жалость сердца нашего, и с повестию сею походим с ним умныма очима, и воспомним краткостию слова пребывание его с нами, и поне сице сотворим утешение себе от многия жалости.
Бе бо сей раб Божий от юны версты научен красоты благочестия, и от преятия родитель взгромажден ведением древняго благоверия, якоже и отчество его и вся поморская страна, яко велие прародительное наследие святых отец древнее благочестие преятием друг от друга лобызаша, и отцы сыном и тии же своим чадом преподаша ведение и слышание святоотеческаго православия, с киим поучением и просвещением сей раб Божий воспитовашеся. Не от невежд же некиих и слова непричастных древлецерковное благочестие всероссийское всей поморской страны в нынешняя времена смущенная проповедася и уяснися. Сице и рождение сего от прародителей и родителей, от них же последованием благоверие восприят, не неведущих писания производится, якоже слово ниже хощет показати.
Егда бо грех ради наших Никоном патриархом перемена 6лагочестивых святоотеческих уставов учинися, и светлое светлейших святых отец чиносодержание отлагашеся, своя же его уставоположения утвержахуся, и знаменающиися крестным знамением по святых отец Божиим уставом, тии проклинахуся, и по старопечатным и старописанным святым святоцерковным и царственным и архиереосвидетельствованным книгам содержателю благочестия, знаменосцы же и чести достойные отцы яко злодеи тогда прогоняхуся и вязахуся и мучении тяжкими искушахуся, и тьма тяжка покры тогда Россию, мечь и огнь поядающь села и домы и пустынная места за содержание древняго святоотеческаго благочестия; от лет сие смущение седмыя тысящи сто шестьдесят втораго году, с Никонова патриаршества. От тогда противящийся Никонову новопреданию и опасный хранитель святоотеческих древних содержаний, священный архиерей и Божий человек, Павел епископ коломенский, за имя Божие и за свидетельство Исус Христово за древлецерковное православие, муж свят и достойный чести, с безчестием послан. бяше в заточение в поморскую нашу страну, в Олонецкий уезд, в Палеостровский монастырь; паче же рещи яко некий Моисей и Аарон Божиим изволением на утверждение новаго израиля, беззлобивых и богобоязливых поморских людей прислан бяше. Идеже несколько время пребыв, поучая свободно народы, утверждая жити в святоотеческом благочестии, нововыниклых уставов Никоновых соблюдатися наказуя. Коего учения и благословения архиерейскаго страны сея жители вкупе же и родители сего раба Божия Петра слышатели же и свидетели зело бяху.
По сих же явися ин муж свят и благочестив, игумен Досифей с Тихвины Николы Беседнаго монастыря, благочестия ради крыяся, старостию и добродетельми украшенный, иже часто прибегая в пустынной некоей Куржетской обители, ея строении преподобнаго некоего старца Ефросина, в ней же и святыя церкви бяху. В них же собираяся со многими отцы, великыми постники и знаменосцы, иже от многих стран и от Соловецкия обители изшедшии, яко ангели некия, земнии и небеснии человецы, службу Богови за весь мир приношаху и житием добродетельным просвещаху. И бяху мнози в них разумом божественнаго писания обогащени и безстрастия светом просвещени, священнаго и иноческаго чина знаменосцы. Откуду тогда в зиму гонения лютаго на благочестие весна сияше пресветла от оных знаменосцев благоверия. Тогда мнози от знаемых и сродных сего раба Божия во ону обитель прихождаху и просвещахуся, исповедахуся и святых безсмертных таин причащахуся. Аще и послежде защитницы Никоновы и ненавистницы древлесодержательнаго благочестия, архиерейстии посланнии с Новаграда, оле плача и жалости! не токмо разпудиша стадо Христово (по реченному апостолом: все хотящии благочестно пожити о Христе Исусе гоними будут); но и святыя церкви тыя в Куржетской обители огнем пожгоша. Обаче одушевленныя церкви благодатныя, по апостолу, — вы есте церкви Бога жива, старожитнии они отцы остальцы Соловетския и прочих обителей, крыяхуся по пустыням поморским около Онега езера, пачеже около отчества сего поминаемаго нами Петра, Повенца именуемаго. И тако древлеправославное благочестие храняшеся и проповедашеся, и в домех благочестивых богобоязнивых мужей светяшеся, и пустынная места благочестивыми от гонения наполневахуся. И сей раб Божий Петр от младенчества благочестивыми повестьми питаем со сродники своими возрастааше. И тако не токмо от издревле сие наше православие евангельскими, апостольскими и соборными догматами украшено есть, и священными книгами засвидетельствовано; но и в смущенныя сия дни архиерейским и священных мужей благословением и проповедию насаждено и страдальческою кровию утверждено есть, в нем же сей раб Божий в юны версты слышанием просвещаем возрасте; такоже от прародителей и родителей, наученных святым книгам сущих и вероятельства достойных восприя последованием уставы древлецерковныя.
Прадеда бо его отец бяше рода князей Мышецких с Новгородския области, именуем Борис Александрович, муж благ и благочестив и добродетелен, якоже последованием родителей ведению даже до нас дойде. Той во время смущения Русския земли, егда от шведов и поляков волновашеся Россия, и мнози принуждаемы бываху целовати крест чужестранных кралей; сей же благородный князь не восхоте в том учинити поползновения, но якоже крепок во благочестии, сице своим природным государем вернейший явися, не поддадеся чужестранным иноверным кралем, не восхоте креста за них целовати. А понеже велие налегание тогда от противных бяше и бедствоваше Россия конечным бедством, остави сей отечество свое и поместья и вотчины, и пресельник бывает в Заонежской пятине, аки в пустыне некоей в лесожительном селце, Пудожская гора именуема, в нем же, во иноческом чину Боголеп преименованный, благочестно преставися. Сын же его Иван Борисович священства и иночества чином назнаменован, Иона во иночестве именуем упокоися. Того же дети Порфирий священник и Евстафий пресельники на место Повенец именуемое быста, незнатно и убого суще; якобы последи от них и рода их тое место населися,и из рубища нищеты и неволи очистися и знатно в сих странах учинися. Сего бо Евстафия дети Иаков, иже и дед бяше сего поминаемаго Петра, муж в сих странах знаменит и разумен, в гражданстве же славный от великих государей самолично многажды милосердие гражданству же и сему Повенцу получивый; а наипаче во время воеводства на Олонце князя Терентия Васильевича Мышетскаго, от него же по любви к милосердию благородия сродственнаго велие милосердие тогда получи. Такоже и братия сего вси священному писанию научени и церковными древними уставы просвещени, и в гражданстве и в странах сих знаменити бяху. От них же Дионисий не токмо в мире правдою и добродетелию поживе, но и оставив мир, пустынное житие лобызав, добре Богу девятолетно потрудися; свидетели же житию и словесем его братства сего старожители суть. Помяновеннаго же Иакова сын Прокопий произнесый сию добрую отрасль в мирстем житии умре. Мати же сего добляго Евфросиния, во иночестве Екатерина, зело боголюбива и благочестива бяше; яко многия ея ради веры и любви к Богу единочадых своих сего Петра и дщерь едину и вся мирския покои не пожале во время гонения веры оставити, да благочестно во благочестии скончается. От таковых прародителей и родителей сей наш Петр произшедый и от младенства священным книгам и древнему благочестию научен бяше, в девятоенадесять лето возраста сего мира и мирскую прелесть оставляет. Возжада бо (рече с пророком) душа моя к Богу крепкому и живому, услышав глас евангельский и поревнова, ощутив преславный Владыки глагол; и возъусерствова почув реченное: аще кто оставит отца и матерь, жену и чада, села и имения сторицею приимет, и живот вечный наследит. И теплым тщанием исполнитель сему учинися; отбеже бо покоев телесных, отскочи красоты славы сластей, яже тогда преизобильствоваху, и насельник с сверстники и сродники некиими своими пустынных мест бывает, с псалмопевцем ревнуя и вопия: се удалихся бегая и водворихся в пустыни, чаях Бога спасающаго мя. Тепл бо бяше верою и разжен усердием; глаголаше бо: аще ми и гладом умрети в пустынных местех, но лучши произволяю терпети Христовы ради любви в прародительском церковном благоверии, нежели жити в селех грешничих в смущении о благочести, в мятежах и молвах и гресех мира сего.Егда же приложися пустынным недром не лености и дряхлости вдадеся, не сну и унынию послужи, не своевольству и безвременному скитанию ссебе вручи; но весь всего себе всеусердно Богови на службу отдаде; церковную службу исполняти в келиях по уставу возъусердствова, ей же от младенства научен бяше. Правило же келейное по благословенію отц усердно исправляше; чтению же священных писаний, яко райския сладости, по дни и по нощи выну наслаждатися не преста, читая, преписуя, каталоги устояя (устрояя?) даже до смерти в сих упражняяся; в посте же и трудех пустынных юность свою смиряаше, усердно многи пустынные труды подъемля, в них же не оставляше молитвеннаго правила и священных писаний прочитания; тепл бо бяше и усерден, в во всех делех остатися не хотяше, яко рещи усердному делателю многая дела уступают. О чистоте же тако телесней яко и душевней велие прилежанние имеяше, поминая рекшаго — блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят; размышляя же о не хранении чистоты беду не малу апостолу глаголющу, кроме тоя никто же узрит Господа. Прочее рещи о всех добродетелех подвизаашеся, ко всем ревноваше, ову творяше, другой поучашеся, о иной ревноваше,. иная слезами и моленьми наполневаше, и во всех добрых делех не последний хотяше быти. Часто же о сих поучашеся и отеческая словеса о чистоте и смирении умнем поучающая выну прочиташе, и о смертней памяти и суде страшнем всегда наказовашеся. О службе же церковней и о уставе тоя зело прилежание от младенческих ногот имеяше, не токмо что от родителей и от отец древнейших научен бяше, но уставы древлецерковныя в обиходники монастырския прочиташе, и с них воедино некое краткое собрание преписоваше; попечение бо велие имеяше да вся по отеческим уставом богоугодно исправлена будут. Чесо ради многаго его тщания и искусства достоин явися екклесиарх церковныя службы, и украситель торжественный, и всебратственный пользодатель, и многий помощник строении общежительству, тако Богоявленскаго, яко Крестнаго девическаго.
Откуду же общежительство сие начало прият и како устроися, нужда нам вкратце объявити зде, да скажуще о нем екклесиарха тоя покажем, екклесиарха же повествующе общежительетво явим; да неведущии ведением, ведущие же памятованием обновят своя слуха; ибо малая сия речка, или кто како об нем помыслит, общежительство сие, глаголю, истече от источника великаго, Соловецкия глаголю преподобных отец и мирских молитвенников Зосимы и Савватия обители, яко благословением, тако чином и уставом образом сицевым. Егда бо древле соловецкие отцы не приимаху новых уставов Никона патриарха, древлесодержания церковнаго нимало уступати дерзаху; бяху бо в них тогда мужи честни и святи от многолетних подвигов постных просвещени и разумом божественннаго писания озарени. В них же два прочих превосходяща в премудрости и разуме и во всем ведении священных писаний; един Герасим Фирсов именовашеся, его же премудрость и разум каков бяше является от писания его, еже написа о знаменовании креста на лицах своих; вторый же черный дьякон Игнатий, муж, святолепен и подвижник велий, и божественнаго писания вельми читатель и внешняго наказания искусен.
Бяху жо тогда в Соловецкой обители мнози отцы святоподвижнаго их ради жития прозорливым даром и знамении и чудесы облагодатствовани. В них же бе некий отец Гурий именуемый, аки благоуродствуя пребываше, многая прорицания тогда предвещааше. Егда еще Никон митрополитом бывый, по мощи святаго Филиппа посылаем бяше; тогда той святый старец приезд его и яже о нем прежде прорече, и ина многа памяти достойна, глаголаху отцы, той прорицаше; молитвенник бо велий и постник бяше многолетен, и чистоты ради умныя предвидяше дальная, яко близ сущая. Той великий отец часто помяновенному Игнатию отцу повелеваше изыти из обители Соловецкия: Бог тебе, глаголя, повелевает отсюду изыти. Чесо ради стужившу отцу Игнатию и некогда молящу святаго сего старца: «Почто убо, о святче Божий, аки мя непотребна уда от обещания своего от обители преподобных изгоняешь?» Святый же той старец — «Иди иди, Игнатие, — рече, — не имея сумнения, хощет бо Бог состроити тобою велию обитель в славу Его». Обители же Соловецкой разорение предрече, яже послежде зельным страданием древле Соловецтии отцы за древнее благочестие скончани быша.
Поминовенный же Игнатий изыде из Соловецкия обители по глаголу святаго старца и по благословению отец, и Богом подвизаем прииде в сия поморскии пустыни, пребываше близ Повенца, отечества помяновеннаго Петра, и часто в дом родителей его прихождаше, якоже и прочии отцы Соловецкие, и благословения сподоблеваху. Пребываше же еей отец Игнатий во многих вышеестественных подвизех, и в вышепомяновенной Куржетской обители с священноигуменом Досифеем и прочими отцы схождашеся и единоумно о благочестии усердствоваху. Бе бо добродетельнаго ради жития и премудрости всеми знаем и именит; еще же живый в пустыне сей чистоты ради его сердечныя и безстрастнаго жития прозорливый дар от Бога имеяше; иже видяхуся добродетельны быти, их же провидя он последи отпасти благодатнаго жития, и предрече о них, иным наказанным быти за прегрешения их объяви, другия зело ревнители являющися от очию своею отгна преступники быти предсказа, вся же сия по предречению отца сего сбывахуся. Многи же сей отец священный просвети учением, научи благоверию, наказа добродетелем. Чесого ради мнози прицепившеся к нему и моляху его с ним пребывати и предводительством его спасенным быти, еже и сотвори боголюбивая она душа, памятуя проречение и повеление святаго старца Соловецкаго Гурия. И нача сей в пустыни общее житие не токмо по благословению отец Соловецких, но и благословением помяновеннаго игумена Досифея, бяше бо ему отец духовный, иже повеле ему женеск пол особь в пустыни от братии отстраивати, и велиим опаством целомудренное наблюдати житие, иже и велиим опаством по священным писанием общежительнии же и целомудреннии уставы предводительствоваше.
Сему же отцу ученик и сообещник бывает кроткий, аще ныне кто таков, Даниил, благословением священнаго отца игумена Досифея, бяше бо ему сын духовный и стаинник благочестия. Молящу же Даниилу священнаго сего игумена да благословит и научит у какова искусна отца в накаэании быти; священная же она глава, аки Богом подвизаем: «иди, — рече, — и в ваших поморских странах пребывающа Соловецкаго старца Игнатия послушай; сей бо мощен тя наставити на путь спасения»; еже и сотвори Даниил, бысть ему сын и сообщник общежительства его и несколько время терпяше с ним и братиею многи скорби пустынныя и гонительная волнения. По сих же отцу Игнатию многи души во благочестии и добродетелех научившу и направившу и скончавшуся о Христе; осталец же онаго общежительства Даниил смиренный, скитаяся по пустыням с некоею братиею, место от места пременяя многаго ради тогда гонительнаго волнения; и многое попечение имеяше, аки некий великий долг, да общежительное обещание по благословению отец в общежительных святых уставах исполнит. Бяше же тогда в пустыни сей живя священный отец, предревний великаго жития подвижник, авва Корнилий староскитский, Ниловы пустыни древлеобещник, знаемый еще древле бяше и любим добродетельнаго ради жития святейшему патриарху Филарету, и несколько времени у него жил бяше. Той аки ангел некий в вышеестественных подвизех просвещаше пустынная сия недра, и всем нам отец духовный и сладостный наказатель бяше, Даниилу же и помяновенному нами Петру. Бяху же инии отцы: древле Соловецкий отец Геннадий, Качалов по роду имянуемый, Иосиф Соловецкий же и ины отцы и пустынножители, с малою дружиною живуще и молитвами своими дебри сия освящающе.
Даниил же в малом общежительстве живя, древле Соловецких отец благословением аки искру во угле, или аки благовонное миро в алавастре носяй, соблюдая. Усердствуя же он о общежительстве, возъусердствоваше же и прочая братия, возревноваша же и отцы, благословляюще и повелевающе о нем пещися; яко же и нас с приснопамятным Петром моленьми, отеческими благословеньми, советов принужденьми принудиша общежительнаго не жития точию, но и попечения тяготы вкусити. Разсуждающе тое тогда, да обдержанием общежительства в пустыне сей благочинное житие утверждается, всякое же безчиние изничтожается, и да не попустится своевольным злым людем место пустынное жительство быти, яко же и бысть; ибо тогда воровских людей терние в лесах сих вкоренятися наченшееся, благодатию Христовою обдержанием общежительства сего изничтожися. И мирно, и благопокорно, и ведомо житие сие тако царскому величеству, яко властем градодержательным общежительством сим исходатайствовася; яве бо по Христовым и апостольским преданием повелевающим Бога боятися и царя почитати, и Божия Богови и кесарю кесарева отдаяти. Сия вся Богу помогающу, благое от Божиих писаний и благопокорное разсуждение общежительство сие источает. И тако сие общежительство, яко же рехом, от Соловецкия обители произтекшее есть, чином же и благословением Соловецких отец вкорененное, и священноигумена Досифея благословением насажденное, к сим же и староскитскаго отца Корнилия и прочих отец пустынных молитвами и благословением утвержденное, изперва место из места пременяя гонительных ради случаев бяше; со священным отцем Игнатием близ Пурнозерских езер прежде водворяшеся, пренесе же ся на Саро-озеро, идеже после отца Игнатия соблюдашеся; по сих близ Боровскаго скита при малом езерки крыяшеся, идеже мы благодатию Божиею совокупихомся и живяхом, по благословению священнаго отца Корнилия и прочих отец пустынных и Соловецких отец Геннадия и Иосифа. Таже Богу извольшу преселихомся к Выгу реце, идеже не токмо древнейшии отцы Корнилий и Виталий благословением и присещением многажды нам присутствоваху; но и Соловецкия обители священник Пафнутий и пустынножительный старец поживе во общежительстве лет седмь, всерадостно благословляше устав общежителъства и церковныя службы и возвещая вся благочестивыя уставы же и обычаи Соловецкаго монастыря, и сладостно прилагашеся сего общежительства уставу. К сим же и древний старый священник Феодосий, страдавый многолетно за благоверие, той прилувся быти в общежительстве сем, усердно похваляя и благословляя чины вся, и Бога благодарствуя о уставе общежительства сего, и сам желаше сообщежитель и служитель быти.
Сице убо сие общежительство от пустынных и освященных отец первозачатием проистече, толиких же и таковых священных мужей благословением строительствовано бяше; его же екклесиарх и состроитель и многоусердный пользователь бяше поминаемый раб Божий Петр. Но не таково бяше сие общежитие и особноскитское пребывание тогда, егда снидохомся, яко же ныне зрится. Бе бо тогда стадо Христово в сих поморских пустынях, аки в нощи бурной и темней, в гонительных волнениях и от безчинных людей во обуреваниях, по пустыням и по местом страдальчески без чина и паствы скитающеся; и рещи по Григорию Богослову, яко смокву в пустыни обретохом Израиля, и яко зерно едино или второе зрело в безгодне грозде благословением Господним убо соблюдено и начаток освящен, обаче мало и скудно и не наполняя уста ядущему, и яко стяг на холме, и яко древо ядреное на горе, или аще ино что от единаких же и не множайшим видом. Егда же благодатию Божиею и благословением отец совокупихомся в сие общежительство в таковых пустых хлебонеродных местех, в толиких бурях и волнах неисчисленных, в толиких ратех и напастех безпрестанных; о, коликих трудов и потов в строительство сего общежительства воздолженствовало! о, коликих подвигов бедовметных и попечений многопечальных возтребовало, — телесное житие состроити и душевное спасение устроити, в неплодных местех прекормление примыслити и душевную трапезу (да не гладом помрут) всегда уготовити, нивы лесораслыя с трудами пахати да и терновидные нравы со многими поты изтерзати, одеждами в нищих местех одеяти и общежительными святых отец обычаи ненавыкших людей украсити, горы своевольныя поравняти, чащи миролюбных обычаев искореняти, сено со огнем разделити, воды страстныя застановити, возгорения похотная и яростная загасити, волны многочисленныя утишити, противу ратей премножайших ополчатися. Колицы же и какови противности и злодыхательни рати на церковь же и братство сие быша и суть от диавольска злорыкания, от бесовския зависти от гонителей жития, от раздорников лукавствия, от иудоподражательных злодыхательства, от безчинных свирепства, от своевольных шатания, от злообычных роптания, от гладных случаев, от нужды потребных, от вне и от внутрь, от невежества и от предприятия, мнится сие от самыя преисподния геэнны волны сия на корабль благоверия гремеша и гремят, от самых челюстей чермленаго змия бурливыя воды сия на церковное благочестие восклокоташа. О, с коликою ужастию прешедшия рати тыя помыслити! О, с коликим жалостным плачем о оных пророчески возопити: яко аще не бы Господь в нас (помогая нам) ввнегдавозстати человеком и бесом на ны, убо живы пожерли быша нас; внегда прогневатися яярости их на ны, убо вода потопила бы нас.
Во всех же сих нужных братских строениях я ратех от диавола наносимых безчисленных, велий бяше ревнитель, и усердный подвижник, и теплый молитвенник, и духовный ратоборец, и теплейший советник, и помощник правительствовати братство, и боголюбивый учитель, и украситель церковный сей наш церковныя службы екклесиарх. Многолетныя же его всебратственныя и всецерковныя подвиги и труды не сего краткаго времене и не моего грубаго ума подробну представити пред ваша боголюбны очеса; аще и потребно нам сицевая слышати, да воздвизаемся на таковое усердие; аще и должно нам трудами его память поновляти, да незабвенно имеюще толикия его всебратственныя и всецерковныя подвиги, долг любви помяновением души его любовно отдати возъусердствуем; но краткости ради сия вся молчанием минуем. Обаче не премолкнут нивы и горы древния труды его возвещати, идеже он, брат, слезами припадаше, у всех прощения прошаше, взаимно же всем, вселюбное прощение изливаше; вся церковныя люди, вся любовныя и сродственныя лица плачаше на молитву Богу за себе воздвизаше, и ныне и тогда и нами и чрез нас вас убо, о священное совокупление, умильно молит, и слезоточительно просит, и вечное любовное целование деет: «здрави будите, — глаголя, — здрави любезнии отцы, здрави сладчайшая дружино, здрави единоревнительнии друзи, любовнии сродственники, церковная чада, богособранные сироты, здрави вси боголюбезнии и сладчайшии мои будите, и за мя возставше Владыце молитеся, пролейте боголюбныя ваша слезы, к царствующим Царю возшлите за мя любовная воздыхания всемилостивому Спасу. Простите мя, священии отцы, елико согреших Богу и вам, простите мя, любезная дружино, вся богособранная церковная чада, и елико вас кого согрубих простите ми и за мя молитеся; помяните мою к вам любовно худую любовь; помяните яко о Христе пребывахом, ядохом и пихом, советовахом, усердствовахом о Бозе с вами, в скорбех утешахомся, в напастех увещевахомся, словом Божиим наказахомся, церковными торжествы наслаждахомся, и ныне праведным праведнаго и милосердаго Владыки моего судом от вашея сладкия любви один отлучен есмь, и не вем что срящет мя, в путь отхожу вечный и не знаю кое получи получу пребывание. Аще бо, возлюбеннии мои, и подвизахся худым моим подвизанием о убогой души моей, и усердствовах с вами о церковном благочестии; но кто свесть и известит мне, прежде Владычня правосудия, приятна ли моя убогая дела или отказана, вписана ли в книги животныя или отриновена от лица Божия. Понеже во многих века сего мятежех, во многих вышесильных попечениих, во многих паче нашея силы братских тяготоношениях или помрачением занят бых, или жестотою окалянихся, или неведением падохся, или моленьми человеческими склонихся, или многими сношеней бурями погрузихся и нелепными мысльми прогневах моего Владыку, или словесы неугодными милосрдно его досадих, или безумными делы противу заповедей Его возборствовах и покаянием сих очистити не дойдох. Увы мне аще сими занят буду от лукавых мытоимцев; горе мне аще возхвалятся надо мною темнии бесове; ох мне аще осужден буду в мучительныя руце их. Аще ли милосердия ради моего пресладкаго Владыки и заступлением общия всех христиан Заступницы всесладчайшия Владичицы и молитвами всех святых небесных сил и всех святых Божиих угодников и наших теплых молитвенников, и ваших ради святых молитв, ваших ради церковных и келейных поминовениих, ваших ради теплослезных прошений; аще помилован пройду темная темных князей воздушная без пакости мытарства, аще милосердием Божиим покрыт дойду, вместо крова дивна, пресладкаго Владыки моего светосияния. О, колико возрадуюся и возвеселюся, о, колико возпою и возблагодарю моего Владыку, о, коликими гласы пророческими возкликну: благословен Бог, иже не предаст нас в ловитву зубом их; помощь наша во имя Госнодне сотворшаго небо и землю. Колико же должен буду памятствовати вашю сладчайшую любовь, ваши за мя умилительныя молитвы, ваша любовная убогой моей души помяновения. О, аще бы, дал Господь за вашими молитвами моей грешней души отраду, должен бы был возопити за вы ко Владыце; должен бы сладчайшия моя други, возмолити: призри, призри, пресладкий Владыко, на Твоя люди бедствуемыя выну, призри на твой виноград, его же насади десница Твоя, призри в тяжких мира сего волнах на обуреваемыя Твоя рабы, отжени лукаваго диавола от них злобу, защити от бесовских злоковарств, волны утиши, напасти отжени, ратующия утоли и в мире мирно сия церковная чада сохрани и небесному Твоему царствию причастники учини. О, аще бы умилосердился всесладкий наш Владыка и дал бы нам места светла в прекрасных кровех своих и совокупил с вами в вышнем прекраснем Иеросалиме; о, да дал бы с вами вечно нам возрадоватися, вечно в вечности небесной возвеселитися. О, колико бы тогда возрадовалися, колико бы возликовствовали, колико неизреченно восторжествовали бы, иже на земли в воюющей церкви, единодушно Его света в Троицы славимаго Бога славословихом, да даст нам и в небесней ликующей церкви благодарно и утешительно славити ег во вся веки аминь. Тем же, духовная моя братия, и друзи любезнии, и спастницы, и знаемии, не забудите мене егда молитеся; но видяще мой гроб, поминайте мою любовь и молитеся Христу, да учинит дух мой со праведными».
Сия убо и такова и вящше сих, раб Божий Петр, в жизни сей жив, изобразил словесы же и делы образ полезен нам попечения души. Сицевыя же умиленныя гласы и вещи, словесы же и писаньми во изходе души своея и ныне нам возглашаше и возглашает, сицевыми любовными пламы вся боголюбивыя души объемлет, сицевым, нестерпимым вечным рачительством сердца наши убодает.
Тем, боголюбное пустынное сочленение, христолюбнии отцы и благоверная дружино и вся усердная чада церковная, воспомним любовь любовнаго благочестия рачителя; воспомним, люди церковнии, церковнаго усерднаго красителя; воспомним, любители благоверия, о благоверном житии всетщательно попекшагося; воспомним, вси благочестивии, всем нам многаго утешения духовнаго и пользы виновнаго; возопием молебно Владыце всяческих, возмолим всеусердно Творца небу и земли, воскликнем к нему: небесный Отче вседержителю и Сыне единородне и Душе святый изходяй, презри умершаго согрешения, и иже зде в церкви Тебе послужившаго, в церкви первенец сотвори его радоватися и славити Тя со всеми огождьшими Тебе. Помолим христианом теплую Заступницу, преславную Заступницу, преславную Богородицу: Царице мати милосердия, милосердо помилуй твоего раба, часто Тебе, о всепетая Мати, воспевающаго, и радуйся, Невесто неневестная, зде возглашающаго, тамо со всеми святыми умоли пресладкаго Владыку душу его упокоити в небесных селениих. Помолим архангельский. собор и всех святых лики: о, архангели и ангели всесветлейший соборе, Михаиле и Гаврииле со всем воинством безплотным, помозите Божиему и вашему рабу, иже в здешнем житии памяти и службы вам усердно торжествовавшаго и на помощь себе призывавшаго, в тамошнем пребывании любовни и милостиви продстатели ему будите. Велиции апостоли Петре и Павле и Иоанне Богослове со всеми апостоли, будито тепли пособники теплому нашему молителю. Вси святии Божии угодницы, угодити вам службами потщавшагося милостиво заступите. Теплый наш молитвенниче святителю Николе, усерднаго вашего служителя, яко отец милосердый, приими в защищение. Преподобнии отцы наши и всего мира молитвенники Зосимо и Савватие, Сергие и Варлааме, не презрите вашего торжественника. Вси российские чудотворцы, не оставите ваши праздники любовно творившаго. Пострадавшие за благочестие страдальцы российстии, помяните любовно срачительствующаго во благоверии и поминавшаго вас рачительно. Соловецкие отцы и исповедницы, благовкрия любящему вы любовь воздадите. Сладчайший Мемноне церковный и наш подвижниче, объими любовно твоего и нашего срачителя. Дионисие старче и боатства сподвижниче, приими любезно любезнаго своего сердоболя.. Екатерина боголюбивая, восприими свое чадо, его же Божия ради любви оставила младша. Вси преставльшиися и милость Божию получившии отцы пустыннии и братския обещники, приимите любовно усердно вы зде помииавшаго. Вси души праведных, утешите вашим утешением от скорби сея грядущаго вашего рачителя. Отсюду, отцы пустыннии, любезное братство, с поминанием провождайте, тамо отшедшее спасшееся братство любовно приимайте; отсюду, любезнии сродницы и други, с моленьми и слезами отпустивше, помяновением сердобольствуйте, тамо, любовнии ему спасшиися дуси, праведных радостно в радость прияти Владыку умоляйте. Вси же вкупе тако в небесней яко и в земней церкви славяще прославим и благодаряще возблагодарим Христа Сына Божия, искупльшаго ны честною своею кровию от пленения диаволя, и смертию смерть поправшаго, и тридневно воскресшаго, и всем правоверно в него верующим вечное пресветлое воскресение даровавшаго, с безначальным его Отцом и с пресвятым истинным животворящим Духом во вся веки.
Аминь.
Опубликовано в журнале “Русская старина” т. 26, ноябрь, 1879 г., СПб, Ив. Д. Беляевым.
П. Прокопьев. Ответ о самоистреблении
Ответ о самоистреблении
За молитв Пречистыя Матере Твоея и всех святых, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Христова стада словесных овец истинному учителю и пастырю Даниилу Викуличу, того же, общежительства грешный и непотребный скаредник, Петр Прокопьев. Возвещаю тебе сим моим писанием и извествую пред Богом нашим Исус Христом, о сем, еже вопроси еси совета от нашего убожества, яко сей путь спасительный и богоугодный, еже во время нужды благочестивыя ради нашея христианския веры от гонителей себе смерти предати — во огнь, или в воду, или инако некако, — паче же с немощными сиротами, и с престарелыми, и маловозрастными отрочаты, немогущими никако укрытися, ниже от мучительских рук страдания и томления терпети; боящежеся паче смерти телесныя, еже от Господа нашего отступления, и душевныя и вечнопребывающия смерти. Еже како бы от любви Божия, благочестивыя нашея христианския веры не отпасти; якоже древле святии во времена мучительства, любве ради Христовы, и благочестивыя ради нашея верыпострадаша, изволяху себе смерть паче, нежели окаянен живот, во отпадении от любве Божия пожити, якоже нам возвещают божественныя книги.
Сентября в 3 день, в житии священномученика Анфима, епископа Никомидийскаго, пишет: в тоже время, к тягчайшей скорби христианом, вещь прилучися сицева: неведомо откуда зажгошася палаты царския и велика часть их сгоре, еже злочестивии на христиан возложиша, глаголюще: яко христиане от ненависти запалиша; тогда ярость царева распалися зело и паче зверя люта возрыка, пожирая христианы, их же великия громады мечами посецаеми бяху, онии огнем зажигаеми; но и сами от верных мнози Христовою любовию разжегшеся, яко в некую прохладу, во огнь себе вметаху.
Октября в 4-й день в Пролозе пишет: святыя мученицы Домнины и дщерей ея Киринеи и Проскудии; сия жены, божественною ревностию подвигшеся, и оставльше домы и сродствия, в землю чужу преидоша, и тако бежавше, достигоша Едес; и тамо ходящим тем, внезапу ста муж и отец, воины имуще, к зачало вратом доспевше и яша я, и доидоша в Ераполь. Река же течаше путем, им же идяху; они же, утаившеся от воин, ядущим им хлеб, и молитву сотворше, наскоре внидоша в реку, вдашася струям водным, и тако скончашася, — разсудивше, яко любве ради Христовы лучше есть водою утопитися, нежели беззаконным в руце вдатися.
Марта в 22 день, в Прологе, святыя мученицы Дросиды, дщери Трояна царя, тако пишет: Таковому же повелению изшедшу, и слышавша сия раба Божия Дросида, яко кождо от христиан, веры ради и любви Христовы, вревают сами себе в пещь, — и прочее чти, иже да тамо смотрит пространнее.
Месяца августа в 1-й день, — о Моккавеох и матери их Соломонии, пишет, на конце слова, сице: Мати же их Соломония, понеже скончавшихся онех виде. и не стерпевши рук человеческих нападения, помолившися и в разжегшуюся сковраду себе вверже, и тако Богу дух предаде.
В Гронографе повествуется, в царство греческое Льва Исаврянина, страдание преподобномученицы Феодосии девиды. Ревностию же божественною разжогшеся, честныя и преподобныя жены: Феодосия девица, и Анастасия Патрикия и инии, опровергше лествицу на землю, низверзают окаяннаго, и влекуще, смерти предаша; и вшедше в церковь, злочестиваго патриарха камением побиваху, наемника наричуще, а не пастыря. Он же возвещает царю таковая. Злочестивый же Лев повеле вся мечем изсещи: и мнихи, и иерея, и многие простца умучи и смерти предаде; инии же благочестия ради сами предавахуся смерти; друзии же в пустынях крыяхуся.
Октября в 24 день, в житии святаго мученика Арефы повествует, како младенец от рук жидовина исторжеся и во огнь скочи к матери своей, — списатель глаголет: и бысть мати с сыном жертва и всесожжение благовонно Богови, — слава Богу, умудрившему тако малаго младенца.
В Книзе Царственной поведает сице: рязанская княгиня благоверия ради с сыном своим Феодором заразилася о землю с высокаго крыльца, от Батыя царя.
И не точию благочестия ради мнози сице пострадаху, но и целомудрия ради и чистоты не мали себе смерти предаша, изволяюще умрети паче, нежели церковь тела своего осквернити; их же церковь Божия приемлет и прославляет, якоже поведают нам священныя книги.
Октября в 15 день, в житии Лукиана пресвитера, великия Антиохии, пишет: глаголю же, яко некая девица, именем Пелагия, ученица Лукианова, егда веры ради Христовы на мучение бысть послана, боящеся, да не насиловано будет девство ея, скачи от высокаго окна и, падши, разбися, и умре, юже вернии с мученики почтоша.
В Зерцале Великом пишет, како Софрония, жена старосты римскаго, сама ся зареза, иже не хотяща скверному смешению Максентию царю приити.
Преподобный Мартиан , о нем же в житии его являет февраля в 13 день: хотящи жена его прельстити к смешению скверному, сам принес хврастия и огнь вжег и вниде во пламень, и толико огоре, яко едва вдолзе времени возможе исцелитися, и бегун от места своего является, и на камени посреди моря нача жити; во един же от дний виде диавол на море корабль пловущ, в нем же бяху мужи и жены, возстави ветр и бурю на корабль той и приразив его к некоему каменю, и разби того и вся бывшия в корабли истопи. Едина же отроковица возможе похватити дску и приплове на ней к каменю оному, на нем же седяше блаженный Мартиниан. И емшися девица та за камень, начаша взывати: помилуй мя, рабе Божий, и не остави мене потонути в глубине сей. Блаженный же, виде ю, яко не имать ни откуду спасения, осклабися, рече: и се козньство бесовския неприязни есть! но не имаши победити предложения моего, диаволе, и помышляше в себе, глаголя: увы, мне грешному, яко паки искушение душе моей предста, — что сотворю? Аще не подам ей руки и не изведу ея из воды, то утонет и будет грех на душе моей, яко убийца ей буду; аще же изведу ю, то невозможно зде мне с нею пребывати. Воистину лютейшая ми есть сия беда и напасть паче первыя: от оныя бо, яже на земли, мощно бежати бяше, от сея же несть зде избегнути, понеже едино есть точию сие малое место среди вод и не возможно беды сея избежати, таже простер руце своя на небо и рече: Господи, не остави мене погибнути! но полезное души моей устрой, и сия рек, подаде ей руку и изведе ю, красну сущу. Глагола к ней: воистину не вместно быти сену со огнем вкупе, и несть возможно, да аз и ты пребудева вкупе. Буди убо ты зде и не бойся, имаше хлеб и воду, да яси и пиеши, якоже аз, и имать тебе довлети, дондеже корабленик приидет зде, иже хлеб и воду приносит; еще бо два месяца есть до того времени, в неже он приидет семо. дай же ему случипуюся вещь и той изведет тя отсюду. Сия рок святый и, знаменав море крестным знамением, глаголя: Господи Исусе Христе, запретивый морю, и ветром послушающим Тебе с трепетом, призри на мя и помилуй мя и не остави мене погибнути, се бо во имя Твое ввергуся в море; лучше бо ми есть в воде умрети, нежели страстию телесней прилепитися. И обращся к девице, рече: спасися девице, Бог же да сохранит душу твою от всех вражиих наветов и соблюдет тя до конца. То рек, ввержеся в море.
Преподобный Иоанникий, о нем же в житии его повесть представительне ноября в 4 день: уведа некую девицу в монастыре женстем, зело палиму блудною страстию, и уже хотящу иночество оставити, и в мир отъити из монастыря, и сочетатися мужу. Помолився о ней святый, да избавится от страсти тоя лютыя, вся же брань та да на него прейдет, еже и бысть, — нападе бо вся напасть она на святаго; он же терпяше крепко, трудя плоть свою великими подвиги; обрет же негде змия страшна, в разселине земной гнездящася, умысли вдати ему себе в снедь, изволяя умрети паче, неже соизволяти нечистым мыслем и оскверняти чистое тело свое; и ввержеся к змию, да снеден будет от него.
Преподобный Иоанн Лествичник, в слове 15 своея книги, поучая от жен удалятися, глаголет: аще ли же за еже скудни потреб есмы, беседовати с ними понуждаемся, да изволим паче гладом умрети, нежели от жен питатися. Хощем бо Богу умерщвлени быти, сущии бо, рече, по плоти Богу угодити не могут. Той бо Сам тесный и прискорбный путь заповеда, ведущ в царство небесное.
Преподобный Иларион в слове своем к брату некоему, в пустыне сущему, глаголет: аще и гладом случит ти ся умрети, да не изыдеши: не на сытость бо мира изшел еси, но на искание вечных благ.
И сия убо вся и множайша сих ищай, трудолюбец в божественном Писании обрящет, яко не точию благочестия ради, но и целомудрия ради не хотяще себе осквернити, на смерть сами ся предаху, ведяще апостолом реченное: аще кто храм Божий растлит, растлит того Бог, храм Божий есть свят.
Но речет ли кто, яко смотрительныя сия образы, еже благоверия ради себе смерти предаша мнози святии в древних временех, а ныне сему не достоит быти. К нему же ныне рекше быти, отвещаем не от себе, но от божественных писаний. Яко вправду смотрительные сии и временные образы, но обаче в божественных Писаниях похваленные и церковью Божиею свидетельствованные и поспешаемые, и святи и праведни, Богу сия сотворшіе угодни. И есть ли где в божественном Писании запрещено о сих и который собор отверже таковая, или кто от святых возбрани сему быти? Но аще и многотрудне поищеши и не обрящеши. Еже святии похвалиша их страдание и в церковныя книги написаша, и впредь будущим родом похваляти и ублажати. Яко аще и древле бысть тако, но ныне и впредь недостоит сему быти. Мы бо по силе немощи нашей, чтуще божественная Писания, сего не возмогохом обрести, ниже от отец слышахом. Лучшее же с Богом ведый, той и нас да научит. 0 смотрительных же вещех преподобный Никон, мних Черныя горы, глаголет: яко не подобает их всегда в притчу или в закон приимати. И инде той же блаженный, о покаянии глаголет (слово 28): еже нецыи не исповедавшеся человеком, но точию пред образом Божиим, и спасены быша; инии же точию залог сей у себе во уме положивше, еже покаятися; недоставше же покаятися, и умроша, и прият Бог покаяние их, и спасошася, — и о таковых смотрительных вещах глаголет: яко не подобает сих всегда в церковная свидетельства и в притчу и во образ приимати, но егда таковое жо найде время. И сия убо великий сей и прочие богоноснии отцы о смотрительных и временных образех сице разсудиша: яко всегда та свидетельства не достоит, но егда таковое же найдет время.
И тако, по свидетельству святых, и о сем, еже в гонении не могущу нигде крытися, храня благочестие, наипаче же с немощными, и престарелыми, и маловозрастными, немогущими бежати, ниже терпети мучения, боящеся же еже от Господа нашего отступления и от христианской веры отпадения и вечной погибели душам своим.Аще кто постраждет, такоже и гонителем нашедшим, себе смерти предаст Христа ради: во огнь, или в воду, или инако никако, по разуму и ревности древних онех вышеписанных святых, венцем и похвалом сподобится от общаго всех праведнаго Судии, Владыки и Бога, за Него же умре, яко и древле святии. Сице убо мы глаголем о сих со святыми отцы, яко крепко и мужественно ставших и за правоверие крови своя пролиявших, от еретик замученных. Похваляем и сих, иже благочестия ради от гонительския нужды себе смерти предающих, не отмещем. Но со иже в христианстве умершими и сохранившими невредно благочестие поминаем, и о себе болезнуем, да сподобит и нас благий Владыка святую веру целу и непримесну всякия ереси с добрыми детельми соблюсти, и за ню умрети, и бегати и крытися в горах и в пещерах, различными нуждами и скорбьми Христа ради себе томящих.
… [одна строка (сверху) в рукописи отрезана]
Аз предложив от божественных Писаний сущее, и елико помраченный мой ум объят и елико прочтох восвятых Писаниях, тебе возвестих, не неведущу и тебе о сицевых, и яко издревле от отец навыкшу, и аще Господеви угодно, и по разуму святых Писаний, слава Богу о сем. Аще же ни, да избирается лучшее и Богови угодное, мене же, окаяннаго, прощения да сподобиши.
О принятии еретиков в Церковь
Обычай Великороссийския страны древлеправославныя святыя соборныя и апостольския Церкви о приятии еретик таков обдержашеся
Два святейших патриарха, Ермоген и Филарет соборне о сем свидетельствуют, сице во изложении их и собрании божественных правил объявляется.
От божественных писаний и от святых правил собрание великаго господина, смиреннаго Филарета, патриарха царствующаго града Москвы и всея России и сошедшихся к нему митрополитов и архиепископов и епископов, Макария, митрополита Новгородскаго, Варлаама, митрополита Ростовскаго, Корнилия, архиепископа Вологодскаго, Арсения, архиепископа Суздальскаго, Пафнутия, архиепископа Тверскаго, Рафаила, епископа Коломенскаго о крещении латынь и о их ересях [Потребник печатный, лист 559] . (ниже)
Тем же убо аз, Божией милостию, патриарх Филарет, царьствующаго града Москвы и всея России, уведев убо неустроение и соблазн в пастве моей сице бывающь. Во второе лето паствы моея, от создания же мира в лето 7128 [1620], возвестися убо мне, некотории два священника Иоанн и Евфимий, от церкве Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии, честнаго и славнаго ея Рожества, иже в Столечниках, на Иону, митрополита Сарскаго и Подонскаго, сицеву вещь, яко той Иона митрополит, тем двема священником Иоанну и Евфимию, от латынския веры пришедших двою человек ляхов, Яна Слобоцкаго, да Матфея Светицкаго, не повеле крестити, но токмо святым миром помазати их, и потом повеле причастити их пречистому телу и крови Господни (ниже). Аз же, смиренный патриарх Филарет, не презрех такова раскола, да не погибнут овцы стада Христова и испытанием писаний, и правою верою исправитися в подобу явленную вещь изволих, да не како останок еллинския и июдейския злобы воистину в зрелую пшеницу вмесился будет, и ис корене яко плевел да восторгнется, и чиста явится церковная нива. И того ради повелех Ионе, митрополиту, пред собою стати, и воспомяну ему о Игнатии патриархе, иже бысть во дни наша. От него же смута о том же крещении – еретическом первое явися, егда в лето 7114 [1606], грех ради наших Господу Богу попустившу, и царствующий град Москву лестию и мечем прият, рострига чернец Гришка Отрепьев. Патриарх же Игнатий угожая еретиком латынския веры, и в церковь соборную Пресвятыя нашея Богородицы и присно Девы Марии, честнаго и славнаго ея Успения, введе еретическия папежския веры Маринку, святым же крещением совершенным християнскаго закона, не крестил, но токмо единем святым миром помаза: и потом венчал ю с тем растригою: и якоже Июда предатель и сей поругася Христу. И обоим убо сим врагом Божиим ростриге и Маринке, подаде пречистое тело Христово ясти, и святую и честную кровь Христову пити. Его же Игнатия за таковую вину священноначальницы великия святыя церкве российския, яко презревшаго правила святых апостол, и святых отец от престола и от святительства по правилом святым изринуша, в лето 7114 [1606]. (ниже) Аз же по малей силе моей, елико благодать Святаго Духа настави мя, вседушно попекохся о сем, и правила святых апостол, и святых отец прилежно смотрях со вниманием, и истязовах со испытанием, того ради. Да уведят вси людие всея российския земли: яко вси еретики различных вер еретических, не имут права святаго крещения, еже водою и Духом Святым. И того ради от всех еретических вер различных приходящих к православию християнскаго закона, подобает совершенно крестити святым крещением, по преданию и содержанию святых вселенских патриарх, еже утвердиша по правилом святых апостол и святых отец, всех же убо еретических вер сквернейши и лютейши есть латыняне папежницы. Понеже всех древних еллинских и жидовских и агарянских, и еретических вер ереси проклятыя в закон свой прияша, и со всеми с погаными языки и с проклятыми же еретиками обще вседействуют и мудрствуют. [Мы же чисти есмы от сих] И от лет убо приснопамятнаго и святаго великаго князя Владимира, иже просвети всю великую Руссию святым крещением, от грек прием, и даже до днесь, по лето седмь тысящ сто двадесять осмое, никто же в нас не дерзнул сотворити таков соблазн еретичества, кроме Игнатия изверженнаго патриарха и тебя [Ионы митрополита] ниже, такоже как и московское государство учинилося. И от того времяне и по сие время того не бывало в Московсом государьстве, чтобо еретиков латынь, и иных различных вер еретиков не крестили, кроме изверженнаго из святительства Игнатия патриарха.
От втораго изложения [Потребник, лист 587]
Тем же убо аз смиренный Филарет патриарх Московский и всея Русии, с сыновы моими положих и утвердих завет и устав, грядущим по нас сыновом и братиям нашим, иже аще будут Божиим благоволением, и всем церковником сущим под нами. Се не новое предание введше, но древнее укрепляюще поновихом: и последующе заповедем святых отец.
Житие преподобного Корнилия
Повесть душеполезная о житии и жизни преподобнаго отца нашего Корнилия, иже на Выгереце
[Первая редакция 1720 года, составленая келейником Корнилия, Пахомием]
Благослови, отче.
Сей отец наш Корнилий родися на Тотьме-реце, бывый земледельца отца сын. И бывшу ему пятидесяти лет, умершим родителем его, остася един. Изучися грамоте и хождаше в церковь Божию почасту, и с верою послушая божественнаго писания, пения и чтения, и о преподобных отеческих подвизех внимаше с прилежанием; и тако от младости всегда любяще иноческое житие. Любяще же прочитати житие Иоанна Кушника, и преподобнаго Архипа, и иных многих, сим подобных, и како от младости и до кончины жития их препроводивше богоугодно живяше.
Имея жь сей отец Корнилий брата сроднаго отроднаго двоюроднаго Михаила. Увещавая же Михаил брата своего Конона — тако бо от рождения наречен бысть — еже жену ему пояти и домом пещися. Конан увещевая Михаила, во еже оставити мир и иночествовати, но Михаил не слушая Конона, мирское житие любяще. Конан же, аще обреташе где какова-любо инока, и вопросиша его о спасении души и како спастися возможно, и мысль свою открываше, во еже иночествовати желаше. Бог же даяше ему таковых отцев, могущих поведати о всем спасительном добром пути, ведущем во царство небесное: како подвизавшиися иночествующии в чистоте и целомудрии — телеса их нетленны — пребывают и таковой чести сподобляются от Бога, такожде и широким путем и пространным шествующи и небрегуще своего спасения какова безчестия и студа исполнении суть будут. Слышавше сия, Конан умилися душею и сердцем и пойде, идеже Бог благоволит.
Но в долзе времени обрете негде старцов, беседующих о пользе душевней — где и как подвизаются отцы. Глаголаху бо, отец Капитон яко велик подвижник есть к добродетелем, иже жительство имеет в Ветлужских лесах, имея под собою братии тридесять инок. И восхоте идти тамо и видети житие их. Вопрошая же Конан иноков о пути сем, и споведаша ему, и пойде же в путь радуяся. И обрете отца Капитона, и поклонився ему, прося от него благословения и молитвы. Отец же Капитон, чин священства имея, и благослови его рукою и глаголя: «Бог да благословит тя, чадо!». Вопрошаше же его: «Откуду еси, и коего града и от коея веси, и что есть имя твое, и чесо ради семо прииде?». Поведа же о себе: «Конан имя ми наречено есть, и приидох семо видети твое преподобие». И припаде к ногама его, глаголаше: «Молю тя, честный отче, да приимеши мя в сожительство братии твоей и сотвориши мя инока, на се бо приидох». Отец же Капитон глаголаше ему: «Чадо Конане, Бог да исполнит желание твое, якоже сам хощет. Но понеже юн сый еси и не можеши зде трудов иночества понести, понеже место пусто есть и всякаго утешения кроме, — но даю ти совет благ: да идеши в Корнилиев монастырь Комельскаго, и тамо тя приимут с любовию. И инок будеши, и угодна Богу и тебе полезная ко спасению души твоея устроиши».
Пребысть же у отца Капитона месяца з два и боле и виде, како подвизаются с добрым пастырем добропослушная чада. И сам Капитон обложен бысть тяжкими веригами железными, постом и поклонами томя себе. От братии же и инии же чрез день хлеб и сурово зелие по захождении солнца ядяху; по ядении же моляхуся и, мало уснувше, паки Псалтырь и каноны пояху. Свитающе же дню, благословение вземше, трудов земных касахуся, от своих бо трудов пищу себе приимаху. Такову наготу стяжаша: вместо свитки по пояс запон держаху, плеча же мантиею до пояса покрываху. И инии же на ребрах не спяху, но седя или стоя мало сна приимаху. Глаголаше бо Корнилий: «Аще и много по монастырем хождах, но мало таковых богоподвижных обретох. Долголетен бысть отец Капитон, более ста лет живяше. Некоего же ученика его вопросившу ми о сих, и глаголаше ми: «Вельми трудолюбезни быша тии отцы». Не могох же аз умолити отца Капитона, во еже прияту ми быти; испросивше у него благословение и пойдох в путь свой».
И прииде ко вратом Корнилиева монастыря. Вопрошен от вратника, и сказа ему откуду и что ради прииде. Вратник поведа игумену; игумен же, призвав, вопрошаше его, глаголя: «Коего града и коея веси и чесо ради прииде?». Он же о себе все поведа, яко первие сказахом, и припаде к ногам его, глаголя: «Желаю инок быти ти и молю тя, честный отче, да причтеши мя ко избранному стаду и спасеши душу мою, на се бо приидох». Видев же игумен произволение и теплоту его, повеле искуситися в монастырских службах чрез два года; по едином же лете постриже его во святый иноческий образ, и нарече с Конана Корнилий, и вручи его старцу добродетельну именем Корнилию же. Пребыв же у старца в послушании двадесять четыре лета, отсекая всяку свою волю, подражая отца своего добрым нравом.
По времени же некоем пономарьскую службу вручиша. Отец же его келейный Корнилий в старости глубоце по многих трудех ко Господу отъиде. Корнилий же благословение испросив у наставника своего ходити по монастырем, хотя видети, како отцы подвизаются, прилагая труды ко трудом. И не тако просто хождаше по монастырем и исхождаше, яко же нецыи обычай имут, но аще где кого обреташе богоугодно живуща, потщатися сего делом навыкнути — от новаго иных добродетелей, яже ко спасению души. Таже и во ины монастыри исхождаше, яко же нецыи, многа же бо монастыри прошед — Сергиев, и Кирилов, и протчия. По сем дойде же и царьствующаго града Москвы, бысть у Спаса на Новом, в Чюдове монастыре, в Симонове.
«В та же времена и лета 7120 при царе Михаиле Феодоровиче бывый на Москве с восточных стран, ис Палестины и святаго града Иеросалима, святейший патриарх Феофан, иже и рукоположивый на Москве патриарха Филарета Московскаго. И аз, окаянный и многогрешный, от десницы его на благословение быти сподобихомся прияти и своима очима известно и достоверно видев, яко весьма боголепно и христоподражательно двема персты люди благословляющи и сам ся знаменающа, понеже у него, святейшаго патриарха, и в келии пребыв в послужении и прилежно смотрях и вся видев.
Некогда же собору бывшу о некоих нужных церковных вещех, святейший патриарх Феофан Иеросалимский, и святейший патриарх Филарет Московский, и мнозии быша соборнии митрополиты, архиепископы и епископы; и глаголаху кождо полезная. И по мнозей беседе глаголя святейший патриарх Феофан во услышание всем ту бывшим, и мне, грешному, сия слышавшу: «Воистину глаголю вам, отцы и братия: ныне во всей поднебесной едино солнце сияет, — тако и в Московском государьстве благочестием православная вера просвещается и светится. И когда будет у вас в России царь с первыя литеры, — при том пременятся законы, обычаи и предания церковная, и будет гонение велие и мучительство на церковь Христову». Слышаще же сие от патриарха, и вси во ужас впадоша. И во ум прияша, глаголаху: «Буди воля Господня! Яко же Богу благоизволившу, тако и будет»».
Жил же Корнилий немалое время в Москве, в Чюдове и в Сергиеве монастырех. Пиянства же и празднословия гнушашеся от детска и до кончины жития своего сохраняяся, и того ради любим был всеми. Многажды принуждаху его священство прияти, он же весьма отрицашеся и недостойна себе вменяше, и не хотяше бо таковыя тяготы на себе имети. По некоем же прешедшем времени у святейшаго патриарха Иоасафа хлебы печаше два года.
Последи же того пойде отец Корнилий в пределы Великаго Новаграда и, обшед многи монастыри, сподобился от преосвященнаго митрополита Афония [Афанасия] благословение прияти. Возлюби же Корнилия зело и приказа ему про себя хлебы пещи — по седми хлебов чрез день. По сем преставися митрополит Афоний [Афанасий] на Хутыни. Отец же Корнилий по нем с протчими Псалтырь глаголал 14 недель. Летом от мощей же Афониевых [Афанасиевых] благоухание исхождаше. Того ради долго не погребен бысть митрополит Афоний [Афанасий], понеже при смерти заповедал себе Никону ни отпевать, ни погребать не повелел, но, ненавиде его, — а про то неизвестно ему чесо ради, — но ожидаху других, кому благословил себя погребсти.
По ином же времени прииде паки отец Корнилий в Новьград уже к Никону, митрополиту Новгородскому, и ходя ко благословению его многажды, знаем бо был Корнилий Никону, когда еще был Никон и простым мнихом. Того времени был Соловецкаго монастыря черный диякон Пимин при Корнилии в Новеграде. Глаголя Пимин Корнилию, что «Ты ведаешь, Корнилий, Никон митрополит — антихрист!». Корнилий же Пимину отвеща: «Беснуешися, тако глаголаше». Глаголя Пимин: «Идем и посмотрим, како руку слагает и людей благословляет!». И видехом известно, яко по-новому, а не тако, якоже прежнии святители благословляли. И благодарив Бога за сие и Пимина, и не к тому уже хождаше ко благословению его, но уклоняяся от него. Некогда виде Никон Корнилия и глаголя: «Корнильюшко, чесо ради ко благословению не ходиши? И хощеши ли — сотворю тя игуменом в Древеницкой монастырь?». Корнилий глаголя всего себе недостойна быти и уклоняяся от него. «В то же время познался аз и з Досифеем игуменом. Поведахся о сем и Досифею — о Никоновом еретическом благословении. Глаголя Досифей, яко «И аз видех, яко непотребно благословляет слагая персты». И дивихомся и недоумевахомся, что прочее хощет последовати».
Пойде же Корнилий к Москве, и прилучися ему быти у святейшаго патриарха Иосифа. И повеле ему патриарх при себе быти, и даде ему службу в соборе Архангельском: надсмотрение над попами и дьяками, ковать и смирять за некоторыя погрешения. И был в той службе неколико время, понеже «сия служба мне не по охоте, но и весьма противна».
По сем прииде в Чюдов и пребысть до того времени, как Никон митрополит приехал с Новаграда к Москве. Тогда в Чюдове монастыре некоему старцу, святу мужу именем Симеону, яви Бог в нощи видение сицево: змий великий пестрый и страшный зело и обогнувся около царских полат, главу и хобот имеющь в полате, и шепчет во ухо цареви. Егда же возбудися старец, поведа соборной братии. Старцы же сего не положиша в забвение, но испыташа известно, что в ту нощь беседова царь с Никоном, обаче про то никто же мог ведати, что глаголя. Старцы же поведа же и другим духовным старцом. Удивляхуся вси и недоумевахуся: «Что хощет збытися се?» — глаголаху. Нецыи же воспомянувше и глаголаша: «Еда сие збытися хощет, еже глагола святейший патриарх Феофан: «Когда будет у вас в России царь с первыя литеры, сиречь со аза, — при том пременятся вся чины и уставы церковныя, и новое последование и новой Бог будет, и гонение велие будет на церковь Христову»». Собираху же ся мнозии отцы и мудрые сказатели — изыскатели: мудрый снискатель и многоученый Иван Насетка, бывый у Иосифа патриарха книжный справщик, и многоученый диякон Феодор, иже последи в Пустозерском со Аввакумом протопопом, и с Лазарем соборным священником, и с Епифанием сожжен бысть; о онех же аще и слышах от отца Корнилия, но по многих летех минувших забытию предашеся. И исчитаху лета 1666 — от развязания сатаны по 1666 лет [по 1000, 666 лет] преходящих, — прилагаху хотящему збытися последнему знамению, еже есть самому антихристу (Апокалипсис, 13 глава, и Книга о вере, глава 30 по Богослову Иоанну на сие время. И друг друга крепляху и утверждаху, не всем же вслух глаголаху сие, но со опасением.
Не по многом же времени, в лето 7160, преставися святейший патриарх Иосиф о Господе. Того же года по нем избран бысть советом царским и собором и поставлен на его место новгородский митрополит, сей окаянный враг и всякия неправды Никон. И мало пожив благочестиво, взя к себе к Москве из Соловецкаго монастыря ссыльнаго старца Арсенка — известнаго еретика, по извещению восточных пастырей и по исследованию царскому и патриарха Иосифа сосланнаго бывша вместо смертныя казни за тяжкия смертныя духовныя вины на вечное заточение. Сей же окаянный Никон окаяннаго врага Божия, известнаго еретика, подобна себе арменина Арсенка — той окаянный Никон из заточения свободи и себе советника и друга устрой, на Печатной дом книгосправщиком его сотвори, — такову сущу врагу Божию тайну поверя по писанному: «дух духа назидаше». И нача казнити Божию церковь, еже есть древнее святоотеческое православное известное содержание отметати и предавати новое неслыханное предание еретическое — треми персты знаменатися и пятию персты раскорякою малаксовою проклятою люди благословляти и таинства совершати; и вознесе в церковь вместо четверочастного креста Господня двоечастный крыж латынский, его же и постави, аки мерзость запустения, на святом месте, еже есть на престоле, и на просфирах полагающу; и на пяти просфирах литургию совершати; и прочая множайшая изменения, их же множества ради писати зде оставляем, единым словом рещи: древния благочестия, святоотеческая предания вся упраздниша и внесоша новая. Видяще же сия вся, отцы боголюбивии ревность Божию восприяша — начаша еретика Никона, врага Божия, дерзновенно обличати.
По лете же некоем моляся Богу Корнилий в нощи со слезами, якоже обычай имеяше, и от печали и о сем в размышлении ему бывшу, в тонок сон сведеся. Виде себя яко бы в церкви Успения пресвятыя Богородицы дву человек прящихся — един благообразен, другой темнообразен. Благообразный же имея в руках своих честный крест тричастный, темнообразный же в руках держа четвероконечный крыж латынский. Благообразный же глаголя: «Сей есть истинный крест Христов!». Темнообразный же отвеща: «Но сего знамения ныне подобает почитати, а не того». И возбудихся от сна. И не по многом времени пойде Корнилий в церковь Успения пресвятыя Богородицы на Благовещенский день праздника и слыша спорющих. И единый глаголаху: «Пой по-новому!». Другий глаголаху: «Не поем по-новому, но по-старому! Как учились, так и поем. А по-новому не умеем и не поем». И паки глаголаху: «Как-нибудь пой, токмо не по-старому, но по-новому». И много у них преки [прения] было, и одолеша новолюбцы, темнообразныи — светлообразных, якоже видеся.
Того же дни по литургии раздаваху просфиры, на них же воображены четвероконечныи крыжи. И принесоша на трапезу показующе друг другу, ужасахуся; и мали приимаху, но не потребляху. Мнози и в церковь на молитву не хождаху, но в келиях своих особно молящеся, а с ново-последующими не совокупляхуся, тужаху и соболезноваху душею. Глаголаху же, яко воистину збытся сие: новое знамение почитаемо, а древнее благочестивое Христово отметаемо и писанное число по Богослову 666 збывшеся и на нас все исполнися.
Тогда видевше святейшии отцы, собирахуся от монастырей многих и соборных церквей мужественнии и ревнующии о благочестии: и многоученый протопоп Аввакум, и протопоп Даниил, и соборный же священник Никита, и священноинок и схимник, великий отец Капитон, и многоученый священнодиякон Феодор Ивановичь, и инии мнози бывшии ревностныи обличители. Ни упустя немало, начали еретика антихриста Никона дерзновенно обличати. С ними же и старцы быша — Авраамий и Исайя, — вси до конца пострадавшии за благочестие. По сих же — ревностный обличитель, священный отец архимандрит Спиридон Потемкин. Мнози тогда ревность показоваху о православии, иже последи засвидетельствоваша кровьми своими, еже излияша за православную веру, — яко блаженный и боголюбивый епископ Павел Коломенский, загладив своя подписания, в Новгородских пределах сожжен бысть, и пресловущая Соловецкая обитель [в осаде была 7 лет. Мнози отцы и братия, их же число превосходящее до пятисот, в них же бяше и архимандрит Никонор, царьский духовник – вси сии пострадаша за благочестие ревностно и смерти вкусиша, доблии воини не точию з бесы, но и с самим сатаною брашеся, и победители быша].
Тогда Корнилий с Досифеем игуменом пойде на Дон. И пребыша на Дону три лета, и паки возвратишася к Москве. Досифей остался на Москве, Корнилий же пойде в Кирилов монастырь. В Кирилове же монастыре много зело было благочестивых инок. Из Кирилова же монастыря прииде в Нилову пустыню и жив 12 лет: службу всю по-старому совершаху.
Живущу Корнилию в Ниловой пустыни, прилучися ему скорбети немало — их быти два года, яко быти ему уже смерти. И прииде ему в разум, еже идти в церковь и помолитися преподобному Нилу в нощи. И поклонився преподобному, со слезами глаголя: «Преподобный отче Ниле, избави мя от болезни сия!». «И абие уснув, и видех преподобнаго изшедша. И емша мя за руку, и подвигша». Корнилий же возбнувся. Не виде никого же, токмо ощути себе здрава, и бысть пот на всем теле его и на главе. И благодарив Бога и преподобнаго Нила.
О Гурии Хрипунове. Жил же с ним в Ниловой пустыни старец Гурий 6 лет — на Москве еще с ним познался, когда о вере правой и новых книгах разсмотрение было. «И многие выписки из книг у него были, и друг ми был любезен». И некоя же ради потребы иде Гурий к Москве и позван бысть многими. Архиереи уговорили его о вере и устроили его архимандритом на Валдае. И, жив годичное время, умре без истиннаго покаяния, — в тое прелести скончася без исправления. При смерти своей кричал и плакался горько, яко и прочим ужаснутися от него, вопияше: «Увы мне, прельстяхся и погибох и всячески! Скажите другу и отцу Корнилию, да помолит Бога о мне». Корнилию же яви Бог — еще прежде посланных пришествия — о Гурии, яко по истязании воздушных отдан бесом; и болезновах о нем душею отец же Корнилий. Егда слыша некоих, похваляющих новоисправленныя книги, глаголаша к ним Корнилий: «Блюдите, чада, дабы не пострадати тако же, якоже Гурий да Григорий Неронов: маловременное житие возлюбивше, прельстившеся и погибоша».
По времени же некоем уведавше новыи отступницы, послаша нарочитых в Нилов скит досматривать. Приидоша посланнии в церковь — видеша службу по-старому совершающих. Глаголаху попу: «Служи ти по новопечатным книгам!» Поп же отказался, не стал служить. И велели служить новому попу. Согласившежеся, скитскии отцы возбранили служить по-новому. Корнилий тогда пономарь бе. Глаголаху ему скитскии отцы: «Егда же новый поп начнет служить по-новому, покажи дерзновение — возбрани ему, мы тебя не поддадим». Поп же начал по-новому служить. Корнилий глагола попу: «Престани бредить!». Глагола поп: «Пономарь, знай свое дело, не указывай нам!». И до трижды глаголаху друг ко другу. Корнилий же, имея в руках своих кадило со углием разженым, удари попа по главе и разби кадило о попову главу. Скочиша отступницы, приняша Корнилия за власы, удариша о мост церковный и биша его вельми крепко, яко и крове тещи в церкви. Старцы же скитскии мужество показаша — бишася с ними до пролития крове. И одолеша отступницы старцов. Корнилий же тогда, Богу помогающу, убеже от гонителей. Книги же и выписки, которые были в келии, все разграбили; многия выписки имелися от Гурия, остались.
Пойде Корнилий, идеже Богу наставляющу, и дойде Олонецкаго уезда, и прииде в Пудожскую волость, ища пустыннаго места. И нецыи христолюбцы обещашася ему хлеб приносити, за себя же Бога молити. Сотвори же себе келию близ Водлы-реки; с трех сторон каменныя стены самородны, на 4 страны — дверь и окно; и малу пещь устрой, потолок же древян и кровлю. И жив в той келии три лета, помышляя идти в Соловецкий монастырь.
В то время прииде к нему соловецкий старец именем Епифаний, и прият его Корнилий с радостию. И построиша келию на Кяткозере, и жил с Епифанием два года не з большим [и боле]. О соловецких отцех ревности сказываше Корнилию и како пострадаша добре, он же благодарив Бога о сем. Великия же ради хлебной скудости Корнилий да Епифаний ядяху осинову кору: вываря в трех водах и высуша, толкли и месили по ржаному роствору и питахуся, благодаря Бога.
Не в кое же время глагола Епифаний Корнилию: «Пойдем, брате, приспе время благочестия ради страдати, не останемся от братии наших». И постися Епифаний недель шесть, прося от Бога извещения, еже и получи. И благословися и радуяся пойде, имеяше и челобитную с собою. Корнилий же постися такоже, но не тако получи известие, — извести бо ся от некоего, глаголюща: «Не у тебе время на муки идти, мнози бо тобою спасутся и в познание истины прийти будут. И будеши отец и наставник многим ко спасению». Прииде же Епифаний к Москве и подаде челобитную самому царю. И повеле Епифанию язык отрезати и в темницу посадити. Той же и по отрезании ясно глаголаше. Поведаша царю, яко Епифаний ясно глаголет, и повеле царь паки второе язык Епифаниев из корене отрезати. По неколицех же днех паки сказаша царю, яко Епифаний ясно глаголет [якоже ничтоже пострада — Бог бо рабы своими и в последния сия времена, еже есть 666, не оставляша, но чюдодействоваше и даяше ясное глаголание языка, аще и по двократном отсечении, на обличение сих богопротивности и антихристовой прелести чрез явление рабу своему Епифанию славнаго своего Илии Пророка, иже и имать прорицати рабы своими в полчетверта лета и обличати богопротивника антихриста и лживаго его пророка]; и не приложи к тому мучити его, но сосла его в ссылку в Пустозеро. По времени же некоем со Аввакумом, и Лазарем, и Феодором сожжении быша в Пустозере. И поведано бысть Корнилию о Епифании, что добре пострада и мужественно; благодаря Корнилий Бога.
Прииде же к Корнилию бывый подьяк Никонов, на Кяткозеро [Пяткозеро] ис Пустозерска от Аввакума, Лазаря, от Феодора и Епифания — страдальцев истинных и непоколебимых воинов Христовых, крепких столпов православия, — нося от сих Корнилию мир и благословение. Поведаше бо ему о себе, како Феодору [диякону двократы язык резаша — Лазарю такожде — за обличение богопротивнаго антихристовой прелести] дарова Бог по отсечении руки, Епифанию по отрезании языка двократы даровася ясно глаголати и по отсечении руки десныя паки рука бысть исцелена от болезни вскоре. Глагола Корнилий: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чюдеса!».
И жил Филипп с Корнилием на Кяткозере [Пяткозере] года с полтора, и нача звати Корнилия, еже идти на муки. Корнилию же паки известися о сем от Бога, якоже и прежде, — не идти на мучение и на обличение: «тобою бо мнози имут ко спасению прийдти и спастися»; Филиппу же известися, яко поможет Бог. И благословися от Корнилия, пойде к Великому Новуграду. И тамо, у Чюднаго Креста взяша его и ведоша к Москве. Он же дерзновенно царя обличив и по многих муках и томлениях огнем сожжен бысть, скончася. Поведано же бысть Корнилию, яко пострада добре страдалец инок диякон Филипп. Прослави Корнилий Бога, давшаго дерзновение рабом своим, себя же укоряя, глаголиша: «От каковых отцев оставлен бысть Корнилий!» — и плакаше горько.
Тогда построй келию на Нигозере [Низегоре], от Кяткозера [Пяткозера] за 6 верст, и часовню малу постави во имя отца Николы, идеже и до днесь стоит, Богом хранима пребывает. От Нигозера же хождаше ко отцу Досифею в Курженскую пустыню. И постриже Дионисия от Досифея ради исповедания людскаго. Дионисий преставися на Чюлозере; родом поляк бысть, гонения ради крыяся.
По сем прииде Корнилий на Водлозеро, на Белой остров. На Белом же острову жил до него старец именем Прокопий. Была у того старца и часовня поставлена. Корнилий же постави себе келию малу. С ним же и другия старцы быша и келии же поставиша, имена их: Дионисий, Галактион и реченный Прокопий. В то время везде гонение было, но поп водлозерской Павел поберегал их. Проведал же про Корнилия поповской староста Семен Кижской, восхоте его поймати. Нецыи же христолюбцы сказаша Корнилию и разбегошася оттуду.
По сем преселися оттуду Корнилий един на Немозеро. И постави себе келию малу и живе мало время. Проведа про него вытегорский поп Ассон — посла по него ходаков, еже поймати Корнилия. Посланной же, что у него нашел, то обрал — самого же оставил.
С Нигозера и з Белаго многажды ходил в Каргополь, ово бегая страха ради гонителей, а ино и своих ради нужд. В Каргополи жь в то самое время много добрых людей было верных, и берегли его Исаковы и Кушниковы. В то же время были посланы с Москвы от властей два монаха ради подкрепления никониянскаго учения — гонители Филофей да Сергий. С ними же Корнилий прение чинил. Многажды рещи Сергий к Филофею: «Молчи! Хотя наша и неправда, да бысть тому так». Оскорбить же ничем не смели, понеже обороняли его посадские, и дал бо ему Бог свободен язык ко глаголанию о вере, да игумен в Каргополи, Спасова монастыря Евфимий, любил же старое благочестие и служил по-старому. У него, Евфимия, жили соловецкие старцы Игнатий да Герман, что в Палеострове скончались (сожжены быша), да старец Иосиф (сожен в Пудоги) и иных человек с восмь — все жили у Ефимия игумена, в поварной келии немало время пребыша. Последи же того незадолго пострада Андрей Семиголов в Каргополи да другой Андрей же с братом. И много часов на мразе стояли, и не прикоснуся их мраз — вся претерпеша и по многих иных муках огнем сожжении быша. Да Афанасий кузнец с Озерец пострадал на Чарынды: в трех застенках был, потом клещами ребра ломали и пуп тянули. Также в зимние в рящи мразы обнажен стоял, и поливали на главу его воду студеную со льдем на многи часы, донележе от брады его до земли соски смерзли; последи же огнем сожжен, скончася. Сии вси мученицы, от Корнилия научишася благочестия. Слышавше Корнилий, яко пострадаша два Андрея да Афанасей за благочестие, глагола: «Блажени, их же избра и прият их Господь и вселиши во дворы Своя!». О сих же, еже слышах от самого Корнилия, сия и написах на пользу слышащим.
И егда оставил его посланной Ассонов, ограбивше что в келии, и тогда оставил Немозеро и преселися на Мангозеро. И ту постриже Серапиона, иже преставися на Лексы. Поживе же неколико время, поставил келию у Гавушезера, от езера за полверсты, в лесу. И ту постриже Варлаама Быкова. Ис той келии зимной, жили в забеги недель 6 у нудьи, в великия мразы много нужды претерпеша; Корнилий же крепляше братию и увещевая, еже стояти о правоверии до смерти, воспоминая им прежних страдальцов подвиги — какову ревность показоваху. И в той забеге были Иринарх старец, Евфимия, Анфиса и аз грешный, Пахомий — всех поучая от Евангелия, и от Апостол и отеческих писаний пристойныя вещи привождаше, паче же Иоанна Дамаскина. Ирмосы пояше по законех отеческих: и «Телу златому» и «Во пламени огненней»; таже и розники [возники — возгласники], пояше: «Жалость приимите, людие ненаказании, законопреступницы рустии», и «Обыде нас последняя бездна», и «Несть избавляяй, вменихомся, яко овцы, на заколение».
Последи же сего, недолго в келии живуще, прииде Сергий старец, моля его, дабы шел к нему жить на Выгу-реку. Он же послуша Сергия — иде, и прииде на усть Лексы. И постави Сергий келию. И мало пожив у Сергия, и не восхоте жития у Сергия; и постави келию у порога по Выге вверх. И недолго в той келии жив ради воды вешней преселися противу тоя келии на другую страну тоя реки, идеже и покой жизни сея соверши. Прииде же Корнилий на место сие, идеже ныне келия его видится, нача строити келию, и глагола: «Сей покой мой. В век века зде вселюся, яко Бог изволи. Последнюю келию Корнилий строит». Благослови же и других две келии строить. И жили лет с восемь.
А по пяти летех прииде к Корнилию Виталий старец. Исповедался Корнилию Виталий, Корнилий же благослови его и жити у себя. Виталий же имея птичие житие: любя странничество, преходя от келии до келии; аще кто представляше ему трапезу, то со благодарением вкушаше, аще ли два или три дни не позываху, то не прошаху ясти. Таково молчание имея Виталий в разуме, мнети яко некиим быти нема суща. Егда слыша некиих неисправно живущих или глаголющих, глаголаше: «То дело не наше, не к нам пришло. Тогда надобно смотреть, как наше к нам и приидет». Любяще, где бы единому — чюлан или некое особливое место. Псалтырь пояше молком. Животы в кошели все носил — оставить было нечево. Некогда Пахомий аз вопросих Корнилия про Виталия: кто, и откуду, и от каковых людей? Глагола Корнилий, яко Виталий болярин был славный с Замосковия. Великой служитель был у прежних царей — имел же и раны на себе, и поединщик сильной и храброй воин. Оставил мир, утаився и пострижеся от правоверующих в то самое время смятения о вере. Прежде живе на Суны-реки у отца старца Кирила, иже и преставися на Выге-реце, пониже Данилова общежительства, за четыре же версты вниз по правой страны, в леску. Ту и скончася, высокое житие живяше безмолвно. Некогда Виталию на Суны бегающи от гонителей, познобил ноги — отпадоша персты обоих ног. По двух же летех на Выге живя, мало болев, у Корнилия преставися о Господе. Свят муж был житием.
Преждереченныи гонителие Филофей да Сергий, что были монахи в Каргополи, вельми озлобили церковь Божию правоверующих. По ином же времени ехавшу сему окаянному Филофею на коне с Кожеозерскаго монастыря и похваляяся злобою своею приводить правоверующих в никониянство, и внезапу разсвирепе конь под ним, удари Филофея о землю и передними ногами уби его до смерти. Вернии же воспев победную песнь Богови, Филофей же восприял по делом своим.
Еще же и о сем известно буди: имеяше же отец сей благодать такову — прорицать хотящая напредь збытися за три года или больше. И некогда глаголаше. «Запасайте хлебы, хощет Бог наказати за грехи гладом», — еже збытся вскоре: позяб во един год всякой хлеб и бысть глад велик во всем мире живущим.
«Некогда бывшу ми на Москве и некогда собравшимся отцем вкупе у некоего господина, потаеннаго християнина, гонения ради лютаго, начаша советовати о крещении: отец Спиридон Потемкин, архимандрит Покровский от убогих, соборныя отцы протопопы священно-Аввакум, Даниил, священноигумен Досифей, священноиерей Лазарь, священнодиякон Феодор, иноки Авраамий и Исайя, и аз, грешный, Корнилий, — о никониянском крещении [по новопечатным книгам бывающее под двочастным крыжем, пятиперстным благословением с триперстным знаменованием; и ради новоизданнаго их символа веры и прочая, а за отложение всего древлецерковнаго святоотеческаго содержавшагося кафолическаго благочестия, трисоставнаго креста Господня, двоеперстнаго благословения и символа веры православныя, по старопечатным книгам глаголющее. Сия вся и прочая с порицанием отложивше и клятвам и анафемам предавше, тяжкопорицательно устроиша соборне]. И вси присудиша купно, что никониянское крещение за крещение не вменяти, и по апостольским и соборным правилом повелеваша паки совершенно крещати второе. Глаголаху сице: «Есть бо таковые правила — и простолюдин повелевают крестити при нужды, не сущу иерею».
Бывшу некогда отцу Корнилию в Замосковье недалече от того места, идеже простолюдин крестил татарина: «Покоихся на лесу един у огня и пояше повечерию. И приидоша разбойницы тридесять пять человек и осмотреша в кошели моем. И видеша книги малы нужни и прилучившиися повести святых и о разбойницех спасшихся — денег одну десять алтын видеша». И повеле атаман Корнилию чести книги, остався не со многими. Корнилий же чтяше во всю нощь. Прослезися атаман, глаголя: «Отселе престану аз разбой творити. Ты же, отче, отселе не бойся, иди с миром». Подаде же старцу милостыню и глагола: «Блаженни вы есте отцы». «Утре же востав и идох с миром в путь свой». «Ходящу ми, — рече Корнилий, — некогда в пути, прилучися обнощевати у некоей жены, уединенной вдовы. Бе бо и красна зело лицем, средовечна. Глагола жена: «Хотя пущю ночевать, да спать тебе со мной». Обаче ночевал непогоды ради, дождь бо бе со снегом. Возлег на место и уснух». Жена же прииде и ляже к Корнилию и нудяще его на дело блудное. Той же отсылая ю и поучаше о спасении души ея; и едва увещающе ю, глагола ей, яко «Крепости на сие дело не имам». И тако помощию Божиею едва свободися: «Тогда бо еще ми средовечие имевшу и, яко во огни, в страсти сей горящу».
Егда же Корнилий живяше на Выге-реце, прихождаху к нему мнози пользы ради — не токмо от сел и деревень, но и от градов; он же всех приимаше и яко отец отечески учаше и наказоваше о спасении души, и о страшном суде, и о будущих муках. Наипаче же всего заповедуя и учаше спасение имети от новых отступников никониянских, называя их явными бесовскими и антихристовыми слугами и действа их вся бесовская нарицая по двочастном крыжем, и малаксовым скверным благословением, и прочими их небогоугодными чинодействы. Многи увеща иночествовати и девственное и постническое житие проходити, иже и доднесь наставлением его спасаются и житие содержат. На слабость же никого не поучаше. Инех учаше грамоте, протчих же желающих постригаше, инех же по разсуждению и покрещеваше. Еретическое крещение от числа лет 666 не вменяше в крещение быти, но паче во осквернение полагаше: глаголаше, яко у прочих отцев прежде на Москве такожде положишася быти, яко же выше показася. И егда слыша о некиих сообщающихся с никонияны в молении, в ядении или питии, глагола добрый наставник: «То не буди наше с ними общение и молитва, дондеже исправятся». Егда же кого наказоваше, против страсти цельбу приношаше: горделивым страша отпадение сатаны от Бога, сластолюбивым — Еввино лакомство, сребролюбивым — Июдино отпадение от Владыки Христа; аще ли от добраго жития ослабевающим — Лотову жену привождаше, блудником и прелюбодеем — содомское горение воспоминая. И просто рещи: аще и книг мало имея, но сам весь книга бяше.
Глаголаше бо некогда, яко во юности, егда бяше блудная брань прихождаше от беса, тогда постом и молитвою без вести творяще; аще когда ясти хотяще, тогда скоро наполняющее и скоро испадающее брашно ядяше — ржаной кисель. Паче же неспанием и поклонами земными себе томяще [во едином правиле своем 1000 поклонов полагая кроме молитв и церковнаго устава; к сему же]: многа лета на ребрах не спяше, но седя или стоя мало сна приимаше. От таковаго благодатнаго жития и подвига Божиею благодатию безстрастия верх 60 лет достиже. Не к тому страстно взирающе на лице женско: аще когда прилучишеся беседовати что, но вниц очию зряще и Бога-содетеля призывая, от детства бо чист сосуд бяше, скверны блудныя от коих не позна. До глубокия старости трудитися люби лес сечаше на всяку потребу. Нецыи глаголаху: «Мощно миновати то дело». Глаголаше противу: «Писано есть: праздный да не яст и проклят тунеядец». Простаго времени никогда имея: или Псалтырь глаголаше, или поклоны полагая, или молитву Исусову глаголаше. В разрешенныя дни масло кравие ядяше, мало николико полагаше; в прочия недели постное ядение бяше и ретьку, высекши на мелко с солию и квасом подливая питашеся. Рыбу же в указанные дни ядяше, в работное время или ради путнаго шествия. Пояше на павечерни псалмы — «Благослови душе моя Господа» и «Господи возвах» — 4 псалма, вместо стихер по 100 поклонов, «Свете тихий», прокимен, «Сподоби Господи», «Ныне отпущаеши» и отпуст. Повечерие и полунощницу по обычаю все. Заутреня — обычно иексапсалмы и «Бог Господь», 200 поклонов, «Величай душе моя Господа» и «Достойно есть», «Хвалите Бога с небес», 3 псалма, «Слава показавшему нам свет», «Благо есть исповедатися Господеви», тропарь, «Господи помилуй» — 40, «Слава и ныне», «Господи помилуй» дважды, «Господи благослови», и отпуст, и час 1, и часы поюще или поклоны — 200, и сие за неимением книг, нужды ради, и по единому Часослову. А Псалтырию — по пяти кафисм за заутреню и за повечерню по две, а против воскресения дни — за заутреню седмь кафизм, за вечерню 3 кафизмы, да 3 чтения на заутрени, — сие вместо всенощнаго бываше.
По многих же трудех и подвизех иночества своего, по многих гонениях и скорбех, бедах, и разграблениях, и досадах пребываше во всем непреклонен душею, яко твердый адамант. Ни оскорбися, не потужи, ни умом смятеся, но с радостию ко Господу глаголаше: «Терпя, потерпях Господа. И внят ми, и услыша молитву мою: возведи мя от рова страстей и постави на камени твоея веры нозе мои».
По неколицех же летех, живущу отцу Корнилию со ученики своими на Выге-реце, повыше устья реки Лексы, на плесе, идеже и конец жития своего восприят, прииде к нему зимним временем по лыжнице крестьянин Толвуйскаго погоста с Выгу же реки, ниже еще Корнилиева поселения за 12 попрыщь жительством имущаго, именем Захария, тоя же ради вины [благочестия ради] крыяшеся от гонителей. Имеяше Захарий двух племянниц южных суще, их же Корнилий по времени и крещением просветив, глаголаше бо: «Отнюд еретическаго крещения стрещися подобает, не бо крещают таковыи, но паче оскверняют по писанному». И нача Захарий Корнилия к себе звати на посещение и благословения ради. Отец Корнилий послушав его — иде, посетив и благословив, и оттоле нача знаем быти.
К Захарию же приходити и множитися от окрестных мест братия: Даниил Викулов [Викулович], Андрей Денисов [Денисович]. Отец Корнилий посещаше и предвождаше ими, уча и наставляя на всякия стези правыя. По сем, умножившимся братиям их, поставиша храм молитвенный, сиречь часовню, во имя Богоявления Господня, идеже и доныне стоит, Божиею благодатиею, и пречистыя Его Матере молитвами, и благословением сего отца Корнилия населени быша — и доныне стоит непреложна и непоколебима пребывает. Буди же паки и впредь Христовою силою и пречистыя Его Матере покрываема и соблюдаема от всякаго диявольскаго нахождения во вся дни живота нашего и во вся веки. Аминь.
По некоем же времени живота своего той же отец Корнилий, егда поучая и наказоваше о полезном и добродетельном житии, паки сице глагола: «Аще, братия, поживете добре по заповедех Божиих и отеческих преданиих непреступно, будет милость Божия с вами во вся дни пребывающая и наше благословение; и распространится сие жительство, и поживете с миром. Славно будет во всех концех. А егда начнет умножатися самочинно творящий и имети особныя вещи — кождо себе запасая, а не по воли Божией, — от сего умножатся самочиния и смехи, нелепыя празднословия и безчинныя глаголы. Тогда не потерпит Бог, яко и прочим от таковых поступок, и непорядков, и самочинников начнут всяк себе запасать, и пиянство содержати, и смехи умножатися. От такова безчиния и злых непорядочных обычаев разорение приимете по Божию попущению. Обаче глаголю вам, яко по составлению начальнаго сего жительства будет глад велик от Божия изволения, яже претерпевати подобает и воспоминати Господне речение, яко многими скорбми подобает нам внити в царство Божие. И аще сие претерпевше мало, а онамо вечно утешатися будем. И по гладе сем умножится изобильно и изящно: и пшенной, за ржаной приимут, и ржаной за ячменной вознегодуют. И то будет от самочинных и своевольных, и своего спасения небрегущих и збирающих и запасающих кийждо себе в потребу — чесо стрещися подобает. И будет от царя опись и дани немалы на всех вас, зде живущих, и многия нужды и напасти на вольности будут. Горения же у вас не будет, но от слабости жития разорение приимут». И паки: «Место сие распространится и мнози спасутся и поселятся с матерями, и з детми, и со скотом, и с люлками». И прочая глагола.
Поживе же отец Корнилий с ними, наставляя на путь спасения, и дойде до глубоцей старости: и маторства мастита. И нача изнемогати, и глагола Даниилу: «Буди прочим отец и наставник ко спасению». Андрею глагола: «Буди судия и правитель общежительству и всей братии. Учися книжнаго разума и обучения, собирай книжное свидетельство: будут спросы и вопросы от царя. Потщися за благочестие отвещать и за церковныя законы и отеческия предания постоять, за что от Господа Бога восприимеши воздаяние благо».
Поживе же отец Корнилий с ними лет пять, наставляя и направляя на вся пути благи. Живый во иночестве, всякими благими делы украсися сто седмь лет; пострижеся осминадесяти лет. Всех лет жития его — 125 лет. Прииде же ему время, во еже от здешняго к будущему житию преселитися. Глагола ко Господу: «Изведи из темницы душу мою исповедатися имени Твоему». И паки: «К Тебе возведох очи мои, живущему на небеси», и «Внегда воззову к Нему», «Не предаждь мене обидящим мя». Разболежеся отец Корнилий уже к смерти, и возвещено бысть Даниилу Викулову, и Андрею Дионисиеву, и старцу Сергию, и прочим братиям. И приидоша, прощение просяще и благословения. Глаголаху: «Оставляеши нас, отче сирых в сие многомятежное время и плачю достойное!». Отец же Корнилий глаголаше им:[«Мир Божий и благословение Его на веки буди со всеми вами. Стойте в преданном благочестии; яко же прияли есте и научистеся, тако и содержите, да воздаяния будущих благ не отпадете, иже уготова Бог любящим Его и хранящим законы Его». И паки глагола: «Мирни будите и любовни ко всем человеком — кроме сея никтоже узрит Бога». И паки рече: «Постойте в преданном вам законе и пребудите непреложны. Новых ертических преданий и учений удаляйтеся и никако не сообщайтеся им (по писанному наказанию: «Еретика человека по первом и втором наказании отвращайся»)». И много ина заповедуя и наказуя. И паки глагола:] «Испытайте писания, яко в них имате имети живот вечный. И та суть свидетельствуя о Мне». И паки: «Сам Господь глаголаше: «И не скоро подвизайтеся от ума вашего, и не дерзо глаголите к вопрошающим вас»». Приемши же прощение и кождо благословение, отъидоша Даниил и Андрей и прочая братия во общежительство, Сергий же в келию свою.
По десяти же дний, в болезни тоя, преставися от здешних в вечное блаженство, добро течение скончав: «Веру соблюдох, прочее соблюдает ми венец правды, его же воздаст в день оный Праведный Судия — и не точию мне, но всем возлюбившим Его». Преставися отец Корнилий в глубочайшей старости в сии лета 7203-е марта 30 дня, в Великий пост, на Страстной недели в четверток.
Сию повесть, житие и жизнь писал из самых уст отца Корнилия слышащи сожитель, келейник его инок Пахомий. Жив с ним, с отцем Корнилием, на Выге-реце, идеже преставися; от него же и пострижеся во иночество 12 лет от юности. Иже слышах, сия и написах тако от самыя истины в пользу слышащим и чтущим во спасение душам и в наследие живота вечнаго. Аз же, грешный, писавший сие повествование с самаго руки отца Пахомия инока еще в животе его суща, понеже сей отец Пахомий знаем ми бысть и любовен зело и оное писание вручи мне. Имех у себе многа лета непреписано. Ныне же, сего настоящаго или текущаго 7275 лета, потщахся молитвами преподобнаго общаго отца нашего Корнилия на пользу слышащим сицевым убогим тщанием написати. И Бог мира буди со всеми вами. Аминь.
С. Денисов. Виноград Российския земли. Отдельные главы
Предивный и всесладчайший ВИНОГРАД РОССИЙСКИЯ ЗЕМЛИ, его же всепредивный Бог от египта темнаго нечестия человеколюбне пренесе, изгнав мысленныя языки, прелукавнейших бесов полки [1]
ОГЛАВЛЕНИЕ
- Вступление
- Глава 1. О Павле епископе Коломенском
- 2. О Данииле протопопе Костромском
- 3. О Логине протопрезвитере Муромском
- 4. О Аввакуме протопопе
- 5. О Феодоре диаконе Московском
- 6. О Лазари иереи Романовском
- 7. О отце Епифании Соловецком
- 8. О отце Авраамии Нижегородском
- 9. О Исаии дворецком Салтыкова
- 10. О болярыни Феодосии Морозовых, и княгини Евдокии Урусовых, и проч. с ними
- 11. О отце Спиридоне Потемкиных
- 12. О Киприане благоуродивом
- 13. О отце Иоасафе Кириловском
- 14. О отце Филиппе певчем царском
- 15. О Козме Донском
- 16. О иереи Никите Суздальском
- 17. О Феодоре Токмачеве
- 18. О иереи Полиекте Боровицком
- 19. О отцех Вязниковских
- 20. О отце Прохоре
- 21. О отце Вавиле
- 22. О отце Леониде
- 23. О священнице Симеоне
- 24. О двух инокинях и о девице
- 25. О отце Иоанне наборщике печатнаго двора
- 26. О писаре Никите Владимирском
- 27. О Варлааме протопопе Псковском
- 28. О Иоанне купце Великолуцком
- 29. О дворянине Димитрии Хвостовых с проч.
- 30. О Василии Лисицыне
- 31. О Михаиле Лисицыне
- 32. О отце Григории казначее
- 33. О Лаврентии купце
- 34. О Самсоне Поповиче
- 35. О Андреи и Евфимии
- 36. О Василии и Симеоне Псковских
- 37. О Евсевии простом
- 38. О отце Иоасафе Чаплине
- 39. О Дионисии целомудрем
- 40. О Калиннике
- 41. О Олончанине и Александре
- 42. О Гаврииле Корелянине
- 43. О Григории и Софронии Корелянах
- 44. О Григории другом и Софронии
- 45. О Евдокии девицы
- 46. О Парасковии девицы
- 47. О Акулине и Ксении девицах
- 48. О воине Симеоне Саратовском
- 49. О отце Филиппе и с прочими
- 50. О дивнем отце Трифиллии
- 51. О Александре Гуттоеве пространнее
- 52. О Гаврииле Корелянине пространнее
- 53. О Марке Олончанине
- 54. О Елеазаре клирике
- 55. О Григории земледельце
- 56. О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле
- 57. О Григории хромом
- 58. О Симеоне Корелянине
- 59. О Иерофеи и его супружницы Евдокии
- 60. О Наталии служительницы Иерофеевой
- 61. О девяти Корелянах и Никифоре с проч.
- 62. О Аврамии Кагопольском
- 63. О Леонтии отце Авраамиеве
- 64. О Андрее брате Авраамиеве
- 65. О Иоанне Иулианине Каргапольском
- 66. О Евдокиме и Григории Чаранских
- 67. О писаре Козме Прокошеве
- 68. О писаре Иоанне Красулине
- 69. О воине Мартине и его супруге Мавре
- 70. О достопамятных старцех Силе, Алексии и Феодоре
- 71. О отце Андронике Дорском с прочими
- 72. О Кемлянине Иеремии Горлове
- 73. О Феодоре и Луке Мезенских
- 74. Повесть жития и страдания Мемнона
Коль предобре всепредобрый Бог того яко другий рай насади! Коль всеблагодатне всепрекрасным оплотом спасительных законов огради, коль всекрепце и широце благочестия корение углуби, елико концы вся, части вся, пределы вся российския всекрасне исполнити. аще на сень его пречудную воззриши, горы покры, над холмы вознесеся, над пустынныя верхи всеспасительно возвысися. аще на стеблие предивное зрение возведеши, тако изобильствоваху, яко всеблагодатныя кедры возвышахуся, яко добровонныя кипарисы благоухаша, аще на всекрасное всепрекраснаго благочестия рождие очеса обратиши, толико всебогатно разширишася, елико до Каспийскаго прострошася моря. и до Чернаго моря своя пределы протягоша. К востоку убо до хинский или китайских стран границы своя поставиша. к западу же до моря Варяжскаго в Лифляндии, и Эстляндии пределы всепрекрасныя всепрекрасно водрузиша. к северу Белаго моря, или великаго океана залив, грань поткоша. в полунощие море великое Ледовитое, и реку великую Обь, границу российския земли всеизрядне устроиша, преизрядными мужества храбростьми: Бяше убо российская земля, елико пределами, толико благочестием весьма изобильна, елико странами толико православием зело пребогата, от моря и до моря, от рек до конец вселенныя, всепрекрасно разширившися, великий убо и всехрабрый князь Владимир, муж, яко пречудныя храбрости, тако дивнаго тщания сый, иже своим доброподвижным тщанием взыска светлость пресветлаго благочестия сионскаго на востоце, и взыскав от восточных стран в Россию, всю Россию, привед во благочестие просвети. от Сиона бо рече изыде закон и слово Господне от Иросалима. от греческих стран прия благочестия доброту. отонуду всекрасныя доброты православныя веры, отонуду спасительныя предания предобрыя уставы: отонуду архиепископы и епископы, священники и весь церковный причет, и вкратце рещи: вся доброты православия, вся красоты церкве, вся благолепия христианская, от грек в российския страны преславно привлече. откуду преславная Россия, всепреславным благочестия просветившися светом: толь всепресветло многосияннаго православия свет во своя части вседивесне простре: елико концы вся, границы вся, пределы одержания своего вся преоблистательно просветивши, к невечернему и праведному солнцу Христу подверже. И тако всепребогатно пресветлыми догматы преоблиста: яко не бяше града, идеже благочестия свет не сияше, не бяше села, идеже православия луча не озаряше, не бяше веси, идеже благоверия сияние не облисташе. но всюду аможе позриши всепрекрасное церковное благолепие узриши, аможе посмотриши всеспасительную доброту монастырей увидеши, аможе очеса обратиши, тамо небесоподобную красоту киновий обрящеши, и якоже великое сие и великопротяженное небо, звездами пресветлыми яко чудными Маргаритами, яко многоценным камением преизмечтанно, всепредивно украшается; тако великопростертая и всепространная Россия, всепрекрасными обительми, всеблаголепными Божиими храмами: толь предивно украшена. толь всепребогато учащена, яко второе небо и бяше и нарицатися бысть достойна. но аще Россия множеством предивных и великих разделяшеся градов, аще и всепречудным безчислием всепрекрасных обителей разширяшеся. Аще и премножайшими благолепия пределами всепребогато разпространяшеся, обаче совокупляшеся предивным благочестия совокуплением. соглашашеся всепречудными пресветлаго православия единеньми. коль согласно таинство православныя веры имяше: коль согласно законы церковныя содержаше: коль согласно предания и уставы отеческия храняше; елико во многих пределах единому благочестия свету сияти в различных концех единей всепречудней зари, единаго немерцающаго солнца всепреизобильно блистати, и не в своих частех токмо, не в своих пределех и между собою точию благочестия согласием совокупляшеся; но и древлевосточней святей церкви от нея же православия всепрекрасно облияся светом златоплетенною того же согласия пленницею всепрекрасно сопривязана бе, едиными благоверия сиянием немерцательно освещашеся, едиными небесных учений непорочными осиявашеся догматы, едиными единыя церкве кафолическия святейшими окружашеся пределы. и яже на востоце православная, сия и в России бяше вера: и коя в Сионе святыя, сия и в России бяху законы: и яже в древлегрестей, сия и в российстей церкви бяху пределы и уставы святыя, яко сбыватися апостольскому всеосвященному гласу: един Господь, едина вера, едино крещение. аще бо Россия словесным академитов не зело прилежащее наукам, аще в высокотворных мудроплетениях софистических не искушашеся: но здравое веры, и простое благочестия, благоревностно и неоплазиво содержаше. и толь непоколебимо и твердо православия доброту содержавшее, яко в толико многочисленных летех не попусти, ниже уступи кому непотребными новшествами смущати и мясти российския благоверия пределы: но чисту всепресветлаго православия ниву от всякаго плевелоучения соблюде всепредивно всебогатыя класы преочищенныя пшеницы в небесныя мещуще житницы присно. и яко неложни суть написаннии глаголи, самыя свидетельствуют вещы, свидетельствуют явственно приезжавшии в Россию от восточных стран, от священных чинов. премногия духоносныя персоны, и от Иеросалима, и Синая, и Египта, и Константинополя, и Святыя Горы, в различная времена, самобывшии в России, и с российскими архиереями многолюбезно разглагольствующии, добросогласно. яко и с Макарием митрополитом московским, иже бысть при царе Иоанне довольно, о церковных чиноположениих, и о законех довольно беседовати и соглашатися, яко летописная история повествует, свидетельствуюта преблаженная вселенская патриарха восточная кир Иеремиа константинопольский, и кир Феофан Иеросалимский самобывшая в российском царстве, и своим всеблагодатным прибытием Россию патриаршеским удобрением всепрекрасно облагодатившая, от них же всесвятейший Иеремиа к царю Феодору Иоанновичу таковыя златословесныя источи глаголы. твое же царство богохранимый царю, есть третий Рим, благочестием всех превзыде: и вся благочестивая во твое царство собрашася. кормчая в предисловии. Свидетельствуют и православнии гречестии архиереи православно седящии на российских архиерейских престолех, иже согласно древлероссийстей весьма церкви и учаще и действующе и утвержающе явишася. Свидетельствуют иностраннии историографы российская действа описующии, согласие российское древлевосточней церкви свободным гласом возвещаху. якоже Матфей стриковский польский историописатель (иже при царе Иоанне живший) сице повествует: яко от того времени (егда крестишася при князе Владимире) русский народ, в христианской вере, под властию патриарха константинопольскаго, и действами греческими твердо и непоколебимо пребывают. книга 4-я, глава 3-я. Явственно свидетельствуют российское благочестие, и российстии святии в различная времена возсиявшии, яко на востоце крещения России, тако и на западе ополчения, всепресветло облиставшии, и в той православней вере спасшиися, по гласу апостола Павла, вера есть спасающая человека. Аще быша неправе веровали, не быша угодили Богу: без веры бо рече апостол невозможно угодит Богу. А понеже святии российстии древнее благочестие держаще угодиша Богу: явственно есть, яко право благочестие содержаху, ими же коль обогатися российская земля: коль доброплодствова и облагоухася российский виноград. яко рай Божий, яко Едем сладости показася, не терние, не волчец, не гнилыя плоды, ниже безплодие злобы и греховнаго жития износящи: но всепресладкия плоды небеснаго саждения, всеблагоуханное рождие пребожественныя лозы пребогатно издаяше, и толико многоплодно елико на безчислие изливающися красно преизобильствоваше, не есть бо таковаго града, идеже святаго в нетленных мощех не является. суть же таковии гради, в них же и два и три, и десять. и множайшии святии многоцелебно почивают. не есть таковыя обители, идеже преподобнаго почивающаго не обретается, и не токмо в начале крещения в России, но и на самом конце пред изменением благочестия. Если при Владимире равноапостольном на время посмотрим, множество святых узриши. Если и при Иосифе патриархе московском на лета позриши, и тогда святых преславно спасшихся и дивных мужей чудесне чудотворящих узриши, ЯЖЕ российския украшающе златоплетенно пределы, земная совокупляху с небесными, человеки российския с самем Богом всепресладце соединяху, едино тело всеблагочетанно, верою и добродетелию единей пресущественней привязуемо главе Христу, едино всеблагодатное стадо, на небесных пасомое небесными пажитей законы: по пресладкому небеснаго сосуда гласу: едино стадо бысть и ангелов и человеков, дивный и предивный мир всепречудныя сладости, всепрекрасное смешения сообщение воистинну превозжеленное превыспренняго спряжения, исполнено доброты божественныя, благолепия небеснаго, славы преестественныя, ею же не токмо человеци земнии превозжеленне насытишася, но и сами небеснии ангели всепрелюбезне насладишася, всесладкую ону песнь воспеваху: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
Обаче[2] не до конца таковым пренебесным окружахомся веселием, не до конца всеблагодатнаго наслаждахомся преизобильно мира: оле твоея ядоносныя огнедыхательныя злобы на нас всепроклятый диаволе; что убо творит, что содевает, всепожирательный древний наветник, змий великий и чермный, змий седмоглавный и десяторожный, змий великоопашный и великохоботный, его же уста велика, великими хулами и смущеньми всесмрадно отрыгающая, язык всепреизостренная всеядовитая бритва, ноздри злосмрадный испущающия дым великия пещи, очеса злодыхательная геенскаго огня издающая пламы, чрево адская ненасыщаемая бездонная пропасть, сей многолетно связанный всеокаянный темничник, разрешен от темницы на пагубу вселенныя всеогнедыхательно грядый: всепреокаянный тресугубое горе земным носяй. коль велию яростию всесвирепо подвизается; коль гневным пламенем непостоянно дышет; коль всегорчайшими наскакании левски зверовидно наскачет, толь нестерпимыми язвами немилостивно поражает, толь всесмертными ранами неисцельно ранит: елико всю вселенную, вся концы мира всесмертною неисцельною уязви язвою. егда по тысящном лете седмотысящный оный зверь, попущением Божиим от уз темничных свободився: зверски на вселенную рыкнув: наскочи на запад и западныя страны вся смущения и мятежа исполнив в свое всенесытное поглоти чрево. ужасеся небо о сем. подвигошася звезды к плачу, и вся небесная вострепеташа преболезненно, и земная вся состояния, сетования черным вретищем облекошася, но что оный тмоглавный зверь мысленный иркан всеядовитый геенскаго пламене [г]идра: поядый западныя страны всепреужасно: еда насытися; еда исполнися того ненасыщенное чрево; никакоже. но и на восточныя страны всенагло подвизается яростию огнепальною, гневом злодыхательным: скверныя и нечистыя языки обреет яко некия всеядовитыя пруги, гога и магога, их же число песку морскому одолевает: сими грады востока поплени, царскую державу смири, страны разори, стан святых обиде, град возлюбленный Иеросалим прият, доброту Сиона искази, красная вселенныя пояде, агарянским безбожным насилием всю вселенную плача и рыдания наполни. Оле того неукрощаемаго свирепства. оле ненасыщаемаго злодыхания, не насытися пожер запад, не укротився смутив восток: но и на оставшая северная всесвирепо нагльствует, и нагло свирепеет, и на российскую всеблагодатную (увы) наскачет страну, яко прелютейший непрь лужный, на всепрекрасный Божий виноград: яко всепресвирепый дивий зверь, на благодатный Христов садL еже того зобати искоренити и пуста, и безплодна показати. Наскочив бо зверояростно и огнедыхательно пребогатая наша, крайняя вся, чпасительная вся обезобразив испроверже, аще догматы святоправославныя, аще законы церковныя, аще предания предобрая отеческая, аще чины и ограды христианолепная, яже от всеблагодатныя востока, древлесветлаго просиянныя Сиона, вся тмою новшественных мраков загустив помрачи, и вся во свое всепожирательное и бездонное поглоти чрево, презельнейшаго обуревания и мятежей, преужаснаго труса и смущения, вся российския части весьма преисполни. толики бо преужасными мятежи, толикими многотрепетными смущеньми, толикими многослезными кроволияньми российская исполнися мироположница, елико и небесным ужаснутися, и великим восплакати светилом, и пресветлым рыдати звездам, и земли многорыдательно стонати, и всей богозданней твари многоплачевными облагатися вретищи. пред оными убо многоскорбными случайми, яко святая писания, тако и учители церковнии: коль всекрепко нас остерегаху, коль всетрезвенным бытии советоваху: и увещеваху от всеяростнаго вражия находа всебодро соблюдатися, во еже подобно прочым во вселютейшая не впасти схизмы. рече бо дивный предивный православныя веры списатель: к сему же и сие воспомянути не отрекуся, еже и святый Иоанн евангелист во главе 20 пишет, о связании сатаны на тысящу лет, и потом о развязании, возвращается диявол на первое возлюбленное свое место, идеже еще из неба хотел, и от того времене поветрием тяжким поражен бысть запад. О сем пространно в главе 21 обрящеши. по тысящном лете, егда 595-е, дохождаше лето, явственнобысть отступление и прельщение нарицающихся юнитов, от святыя восточныя церкве к западному костелу. о сем чти главы на преди 23 и 24. А по исполнении лет числа тысящи 666 не непотребно и нам от сих вин опасение имети. Да не некое бы что зло пострадати, по преждереченных исполнению писания свидетельств. яко настоит день Христов, якоже рече апостол, и несть ли бытии готовым подобает, аще кто достигнет тех времен на брань с самим Диаволом. Книга о вере, друку московскаго. Глава 30.
Аще убо всежелательнии слышателие, всеусердно познати восхотят, откуду убо таковая всепреужасная и лютая восташа в России, и кая вина всепрезлейших схизматосмущений, и кто сих многоплачевных церковных трясений новосодетель; не отъинуду куду враг и неприятель пришедый, не варвар ниже скиф, толь прелютыми скорбьми и неисцельно уязвивый российская чада: но свой своея России воспитанный неблагодарный многодосадительный член (Никон глаголю патриарх) человек елико многокозненнаго ума толико всепредерзостнаго напрасньства, новинам и мятежам радуяся присно, уготованный от издревле на время оное и час, аще звезда спадшая по тайновидцу с церковнаго небесе на земное мудрование, аще огнь фиальный вверженный в российское море, аще ключь оный бездностуденичный на землю российскую испустивый мысленныя многосмущения пруги, глаголати о сем недоумею, иже не у от младенчества устранися, уже от волхвов проповедася великий государь: не у во иноческая вниде, абие от святых отец предвидеся смутитель российския земли многомятежный. О роде его, Корнилий старец поведует о нем, яко курмышанин бяше, с Волги реки, и о благополучии яко убог и сирот[3] бе, и о житии, и нраве в мире, яко острожелчив, яростен и злопамятен зело бяше. и о чине его яко иерей бе, и жену пиянчиву и оплазиву име, ея же ради ушед от нея пострижеся во мнихи, не в монастыре коем, ниже в пустыни и под повиновением: но в монастырстем дому, от скитающагося иеромонаха. оставляю сия ныне для продолжения писати. Егда же во мнишество вниде, егда скиташеся по местам, не веем киими случаи великому старцу преподобному Елеазару вниде и с ним во одном острове Анзерском, от времен некое проживе, о нем же духопросвещенный старец таковая о нем со живущими братиями прорече: о какова смутителя и мятежника Россия в себе питает, сей смутит тоя пределы, и многих трясений и бед наполнит. виде бо святый егда Никону служащу литургию, змия обвившася о выи его, страшна же и зело черна. Откуду святый старец Никона весьма не любляше, и тяжко нань гневашеся, яко и убежати Никону оттуду прилучися. не токмо единому: но и Соловецких двух мнихов прельсти в бежание с собою. прехожду прочее крадение монастырских припасов с собою. прехожду злобное воздаяние человеком за непровоз чрез реку. И в ссылку оных во время власти своея сослание. мимохожду пребывание его в Кожеозерской обители, игуменство, к Москве взятие, архимандритство онаго вся оная за продолжение оставляя прехожду. сие прочее воспомянути прихожду, еже на митропольство новгородское Никоново возшествие, и святаго архиерея Афония о нем проречение. егда бо всепредивному новоградскому митрополиту Афонию зело многодетельному мужу, за старость и очесное невидение, с престола в Хутынский монастырь отшедшу: тогда волею царевою и патриаршеским благословением, Никон на митрополию новгородскую рукоположен: в Новград приеде: и прибыв прежде к дивному оному отцу Афонию на Хутыню ради благословения поеде: и в келию пришед прошаше благословения учителя; оному вопрошающу: кто есть просящий; рекоша предстоящии: владыко святый, преосвященный Никон митрополит новорукоположен просит благословения. тогда дивный и памяти достойный глас, дивне возопи: прииде же время яко и Никон в митрополитах, воли Божией оставим о нас полезная предсмотряти. и тако предивный он архиерей и святый Никона не любляше: яко и по преставлении своем, Никону не повеле своего погребати тела, но псковский архиепископ по приказу его погребе его. и егда на митрополию утвердися Никон, тогда еже зачат во чреве прежде, роди болезнь неотеризмов, премногия беды и смущения наносящую, первое повеле написати образ благовещения пресвятыя Богородицы, необычным новшеством пресвятую Деву младенца имеющу совершена в недрах. (еже ни в коих древних иконоизображениих обретается, ниже в российских, ниже в греческих) сими себе показа Никон, благочестивым и духоносным отцем: яко он явися в России первый неотеризмов родитель. показа неотеризмос еще к сим. еже киевское пение нача в церковь вносити, согласное мирским гласоломательным песнем. показуя себе прившедшаго новшеств родителя в Россию. еже предвозгласиша о нем всепредивии предпомянутии отцы блаженный Елеазар Анзерский, и святый Афоний Новоградский, тое же о нем предвозвести, и духопросвещенный Варлаам митрополит Ростовский: иже пред некиими Никонова властительства леты своя люди учением утверждая, поведаша со слезами настатие мятежев, ущербления благочестия, которое проречение многочудесным утверди преставлением, егда бо Никону с мощми святаго Филиппа митрополита, их же ради на Соловки от самодержца послася, приближающуся к царствующему граду Москве, изыде царь на сретение с народы, и оный всепредивный архиерей Варлаам, иже моляся Господеви, якоже достовернии и ближнии неложно поведаша: Владыко всесвятый и Боже всех, не даждь ми видети сего многомятежника, и смутителя всероссийскаго, хотящаго новинами поколебати Твою всесвятую Церковь: но сотвори со мною знамение во благо, по Твоей велицей превеликих судеб милости, яко благословен еси во вся веки, аминь. что предивное отсюду творится, что всеславное содевается чудо, водиму чудному сему архиерею двема архидиаконома на сретение мощей. и мало Никону не дошедшу елико в видении друг друга бывшим, блаженному прилежно молящуся архиерею, подломишася того нозе, и на руках поддержащих свою душу Господеви предаде. Тело же онаго предивнаго архиерея полгодищнаго, обношения время на Москве лежаше, цело и нетленно весьма, в Ростов отвезеся.
Егда же[4] попущением Божиим всероссийскаго церквоправления корабль Никону вручися, на превысочайшим патиаршестем престоле, в лето 7160 [1652] недостойне на достойный оный седе, коея всемрачныя бури не возвея; коего многобурнаго треволнения на российское не впусти море; киих вихроколебательных трясений на всекрасный церковный не нанесе корабль, ветрила ли всеблагодатных духосошвенных догматов обрете предерзостне сия раздра: ядрила ли всепредобрых церковных уставов немилостиве сломи: стены ли всекрепких божественных законов, всеяростне разсече: весла ли отеческих всеблаголепных чиноположений всезлобне сломи, и в кратце рещи, всю ризу церковную пребезстудно разтерза. весь корабль церкве российския всегневно сокруши, все пристанище церковное пребезумно смути, всю Россию мятежа, смущения, колебания и кровопролития многоплачевне наполни. занеже древлецерковныя в России православная веления, и благочестивыя законы яже Россию всеблагостне украшаху, от церкве непреподобне отверже. вместо же сих иныя и новыя вседерзостне предаде.
1: Крестное знамение, еже в сложении перстов, еже все доброе таинство православныя веры являет, треми персты великими и двема малыми, святыя Троицы триипостасное и единосущное всепредобре показует: двема же указательным и великосредним тайну воплощения, единаго от Троицы Христа Бога двоестественное и единоипостасное всепрекрасне показует: сима двема и крест страдания Христова на себе изображати повелевается за распеншагося нас ради на кресте Христа Исуса. Еже и древлегречестии, и российстии учители в книгах, еже и древлегреческая и словенская иконоизображения, еже и святии апостоли образописанием, еже и сам Христос благословением всеявственно утвердиша, сие Никон предерзостно отверже, вместо же онаго православнаго сложения треми перстами знаменатися предаде, Троицы таинство сим образовати сказуя, сими треми крест страдания Христова на себе изображати повелевая: весьма неприличество и сопротивность в подобии являющими: не бо Троица: но един от Троицы на кресте распятся, воплощения же тайна в оном знаменовании треперстосложения нигдеже и никако правоизобразительно показатися может.
2: Благословение еже и архиереи и иереи тайно народы благословляху, яко и сами знаменовахуся, сие злодерзостно отверже, вместо сего предаде пятию перстами необычно благословляти.
3: Еже трисоставным крестом Христовым просфоры православно печатаху, на трисоставном кресте распятие Христово изображаху подобообразном первообразному, оное же от церкве злодерзостно отверже, вместо же сего двочастным крестом печатати просфоры повеле, на двочастном кресте распятие Христово воображати, двочастному кресту поклонятися ново и необычно завеща.
4: Святаго аллилуиа песнь: еже древле сугубо пояшеся яко в грецех и сербех, и болгарех, тако и в российстей велицей церкви. Сие пресмелостно отложи, вместо же онаго сопротивно древлеправославней церкви предаде три краты пети, четвертое же приглашати слава тебе Боже.
5: Исусово имя, еже прежде с единою иотою славословяше с Исус, сие ересию порече. вместо же сего с иотою и итою писати и нарицати пресомнительно завеща.
6: Во святей литургии, еже прежде на седми просфорах служиша, отложи от них две просфоры, яже за царя и все воинство выимашеся, яже за патриарха и все священство, сия отложив, и на пяти просфорах токмо литургию отправляти предаде.
7: Символ святыя веры приложеньми и отложеньми пред древним дерзостне премени.
8: Поклоны земныя во святую четыредесятницу и прочыя посты законно и обычно творимыя отверже. вместо же сих повеле поясныя и малыя токмо полагати.
9: На прежесвященней литургии и в вечер 50-цы глаы с коленами преклоняющым сице на земли лежащим молитися, древнее церковное законоположение отверже. вместо же сего на коленах стоящым срацинским обычаем молитися завеща.
10: В чине святаго крещения крещающихся святым миром по правилом помазовати очи, ноздри, уста, уши и перси повелено. он же ноги и колена иудейским обычаем помазати заповеда.
11: В церквосвящении, крещении и браковенчании окрест, еже по солнцу трижды обходити во уставех и типикох древних обычно и законно указано, сие без очиво отложи. вместо же сих единожды и противо солнцу обходити дерзостно приказа.
12: Партесное прегудническое пение с митушанием рук и ног, и всего тела безобразным движением бываемое в церковь непреподобне внесе.
13: Молитву Господи Исусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешнаго, или помилуй нас, яже от древлекафолическия церкве и греческия и российския, и соборне, и особне, всем христианом творити завещася, и дивными похвалами засвидетельствовася. Сию святую молитву от церкве и от всенароднаго собрания предерзостно отверже. вместо же сея предаде глаголати: Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас.
14: Иконная написания еже древлеправославная церковь писаше, благообразным и смиренным видением иконы святых: якови сами святии в жизни постницы, воздержницы, всесмиреннии быша, таковы и образы их всеговейно написоваше. Никон же со своими предаша образы святых писати не благоговейным видением, дебелы и насыщены аки в пире некоем утучнены, еже противно есть первообразным святым персонам.
15: Книги святыя древлепечатныя, яже при благочестивых царех, и при пятих святейших патриарсех на Москве православно печаташася. Сия Никон неправыми, погрешительными, и ереси имущими нарек от церкве отверже. вместо же сих новопечатныя книги с приложеньми, и отложеньми, и применами в церковь внести повеле.
И прочая премногая нововнесений превосходящая число, превышающая сочтение. Аще кто хощет отчасти изследовати, да прочтет книгу ответов от староверцев Синоду поданную: и увидит внесенныя явственно новины, и доводы праведныя на оныя сочиненныя: яже зде, краткость истории лобызающе оныя оставляем. Сия прежестокий Никон патриарх горчайшыя сады насади. Таковыя терновныя овощи возрасти, таковыя прегорькия плоды отрыгну; их же россияне вкусивше душами своими поболевше, едва не умертвишася. О коль преболезнено того новоначинания преужасное рождение. О коль премутно всесмущеннаго источника произведение. О коль всегорестно того фиала препелынное излияние, трегубое горе на российскую источающее землю: им же упившихся и упивающихсяЮ всепреболезненно и присно огорчаются утробы; аще бо и вознесеся на толь превелию высоту власти, яко ливанский кедр, обаче не показа доброты благия совести, не прорасти цветов всеблагодатнаго позлащения, ни израсти плодов предивныя и спасительныя сладости, но терние и волчец многомятежнаго смущения, овощие пренеполезных новодогматствований пргорчайших плодоносие лукаваго кроволиятельнаго древа, имиже показа себе быти злое и всегубительнейшее древо, износящее злыя и прегорчайшыя плоды всезлейшаго мучительства по гласу самого Спаса: не может древо злое добр плод творити; еже убо Никон патриарх зачат в себе многомятежное новин зачатие, не от Духа Святаго, не от Благодати Божественныя: но от сокровища многомутнаго сердца своего, сие и на среду произвести потщася. Прежде бо великаго государя царя Алексея Михайловича совесы лестными и мягкими подъиде, аки пастырское имый попечение печаль о овцах, тщание о церковных чинех являя, яд аспидин под языком нося, лукавная советует, советует собору быти о смотрении книжном и исправлении церковнаго благочестия: и тако с волею царскою в лето 7162 [1654] собор собирает во граде царствующем Москве, архиереи и архимандриты российския, и прочыя священнаго чина. что же на соборе предлагает: обычную лесть. что на соборе представляет; ножь развращения медом прелести помазан, предлагает на соборе, яко старопечатныя книги московския с древними книгами писменными и харатейными, словенскими и греческими весьма несогласны: дабы сие потщатися во едино согласие благоревностно привести. на кое осмотрение добротщательно сложися собор, непщующе истиннаго пастыря Никона быти о церковнем доброчинии пастырски боляща, но солгася о сем надежда, аще и мнози от собора познаша того всепрелесное лукавство, в пастырстей одежди зверонравное волка носяща: познаша того добре (Павле епископ Коломенский, Аввакум протопоп, Иоанн Неронов и прочии) обаче до времени удобна молчанием ношаху. Тогда приим дерзновение от собора Никон, многомутный источник своего лукавства абие отверзает: и напаяет россияны пития горькаго, пития пелыннаго, всесмущеннаго: не уьоявся пророческаго глаголющаго гласа: горе напаяющему ближняго своего пития мутна. отъемлет от печатнаго двора преждебывшия благоговейныя справщики, и поставляет вместо оных некоего Арсения монаха грека, мужа толикаго лукавства, толикия злобы исполнена, толикими злодействии пребогато кипящаго: елико и от преждебывшаго святейшаго патриарха Иосифа, во оземствование, и в темницу посажденнаго. глаголют же, и от греческих патриархов Иосифу патриарху московскому, того написашася премножайшая злобы, того злодействия и соловецтии отцы, в прошении к царю Алексею Михайловичу достаточне объявиша, и трижды благочестия отступити того показаша, и иныя злобы и мерзости непреподобнаго мнози от древних отец объявляху, но Никону достоин и добр обретеся, яко сосуд потребный того помышления, яко злодейственный орган того прелестных началотворений; его же обрет зело возвеселися, по общей присловице, обрете себе подобна. Глаголют же и из темницы того Никону свободити, егда в соловецтем ради мощей святителя Филиппа бывшу, егда оный Арсений о патриаршестве Никону неким волхвованием проуведев предвозвести. онаго Арсения на дворе печатнем предерзостне посадив откровенною главою прочее износити нача своих новшеств мерзости.
Первое[5] в лето 7162 [1654] во святую 40-цу во время человеческаго преподобнаго очищения неподобныя новины, непрподобный в народ издаяти повеле, коленопоклонения, си есть земныя поклоны в церкви во святый пост творити не повелеваше, кроме 4-х великих. таже мало покоснев и триперстное сложение в крестном знамении, утверждательно начат износити[6]. Увидеша тогда бывшии отцы, преосвященный Павел, епископ Коломенский, и священнии протопопи, Аввакум, Даниил, Логин, Иоанн Неронов, начаша ужасатися вельми, и всеплачевно рыдати, яко прейде лето всеспасительнаго плодоносия. и всеблагодатныя благочестия светлости, уже показася зима всемразная, новин студености ознобляющая недозрелыя плоды, не сваренныя Божия благодати всесовершенною теплотою. от них же единому пред образом Божиим о нашествии многосмущеннаго новшеств мятежа всерыдательно молящуся: глас от образа слышася тако вещающь: время приспе страдания, вам неослабно страдати подобает. таковый слышав глас той, своим предобрым советником предобре возвещает. и тако вси великодушне благодаривше Бога, великодушне в древлецерковнем православии укрепишася: и собрашася написаша общее прошение, на многомятежнаго Никона, и самому всежалобно царю подаша, и аще дивнии отцы подаваху царю жалобу на патриарха Никона: но ничтоже оных жалоба успеваше. Царь бо лису тому вера имяше, и вся по того воли творяше. тем же и прочая новшества на среду изнесе Никон, еже двочастным крестом просфоры печатати, еже аллилуиа трикраты пети, четвертое приглашати слава Тебе Боже; но аллилуиа в соборней церкве не вскоре трегубити начаша, занеже протопоп Иоанн Неронов начат в церковь оную присно ходити, и не даяше трегубити аллилуиа; многажды и патриархом Никоном благоревностно спирашеся: но патриарх без царева ведома озлобити не смеяше; яко муж бяше от честных и самому царю знаем, и не токмо сии дивнии отцы, но инии мнози, тако от священных яко от людских от того новин смущахуся, и великия молвы и мятежи в российстей земли совершахуся. откуду Никон с волею царевою, паки на собор собирает архиереов российских; в то же время и от греков Макарий Антиохийский; и Гавриил Сербский архиерей в Москву прибыша, никоново начинание подтверждающе. Предуготовишася бо уже во всяко слабо житие. и собору бывшу в лето 7163 [1655], Никон патриарх с прочими произнесенных на среду догмат новшество крепко подтверждаху, и клятвами страшными древлецерковное содержание крестнаго знамения, оле моих слез, облагаху; архиереов же российских патриарх Никон овых страхом мучения, овых прелестию ласкания, иных иными лукавства обстоянии, яко сетию паучинною вся объя: и тако свое плачевное соборище многорыдательнаго разорвания, многорыдательно совершиша. отсюду древлепечатныя книги святыя, аки бы погрешительныя, от церквей отбрати повелеша, отсюду новопечатныя на смущение по всем епархиям разслаша; не есть ли убо плачевный собор, на нем же древлецерковная благочестивая содержания проклинаются; не есть ли многоплачевный собор, на нем же апостольское многотаинственное предание анафематствуется; не есть ли плачевный собор, на нем же Христово всесвятейшее благословение клятве предается. аще и собор нарещися достоин есть, аще и собрание именоватися лепо есть, недоумею; толикий мятеж, толикое смущение, толикия беды нанесший: елико не токмо российским жителем соблазны и сомнения подаде, но и сами собора онаго члены архиереи аще и страхом неволи яти подписашася; но послежде раскаявшеся о содеянных зело тужахуся, якоже Макарий митрополит новгородский, тако скорбяше. тако сетоваше о оных новинах: яко и рукополагающихся священников укрепляше, еже новин не приимати. аще аз и подписахуся рече трепетом мучения объятый, но вы крепко держитеся древлецерковнаго благочестия, и не инако и сам служаше, и благословяше, но яко исперва прият, яко от млада научися: сице и во всем граде, при онаго бытности, не бе гонения, ниже нужди, но вси по первому обычаю совершаху службы, аще от Никона многажды оный архиерей зазираем и досаждаем бе, некогдаже и во узах терпяше: обаче аще и не явно за страх, но в тай древнее похваляше благочестие.
Тако и Маркел архиепископ Вологодский подписався на соборе оном страха ради Никонова, но послежде раскаявся вельми тужаше и зело печаловаше о сем; но и в своем граде никаковыя нужди, ниже гонения и насилия какова о древлецерковнем благочестии людем содела.
Тако и Александр епископ Вятский, аще и на соборе страхом преклонен подписася; но последи и плакаше и рыдаше о сем, и новин весьма ненавидяше. свидетельствует о сем явственно того писание жалобное к царю поданное на Никона во 171-м [1663] году: в нем же никоновы прегорчайшыя плоды, огорчившыя российскую землю, изрядно объявляет: како Никон печатныя книги издаде, мятежа и смущения полны: како служебники напечата шесть выходов, иже между собою согласия не имеют: како убивает верных души, и не хотящих последовати прелестному его мудрованию проклинает. и понеже неможе писаньми и доношениями своими. что блага сотворити: во свою епархию возвратився, и оставив престол епископский, в келию затворися, и плачем и рыданием в покаянии сконча живот свой.
И елико сии, толико и инии мнози, аще от иерейскаго чина, аще от простаго, аще от архиерейскаго: о новинах внесенных от непреподобнаго Никона в церковь, премного смущахуся, и велик мятеж и треволнение имяху, и на вседерзостнаго смутителя, пренеполезнаго новин родителя, всенародне и благодерзостне вопияху: обличающе того всепагубное новопредание, еже и сам Никон в своих ему посланиих к патриарху цареградскому Дионисию описует в лето 7174 [1666] народное на себе возвещает востание и ненависть, тако пиша, и сего ради от всех возненавиден бых без правды, не единою и дважды хотели убить: занеже помощию Божиею ищем и держим во всем нерозлучно греческаго закона предания. и еще пишет, и что нам от тех греческих книг благодатию Божией исправлено и преведено, и то называют новым новым уставом, и моим никоновым преданием. но и во служебнице новопечатном в лето 7174 [1666], в соборном свитце, сомнение народное и мятежи о новоправленных книгах ясно описует, яко народов простых, тако и священников и иноков, и постами и добродетельми цветущих, и ревностию украшенных: иже новоисправленных книг не приимаху, и священницы теми книгами начаша гнушатися и славословия по их не исполняти, и мнози христиане отлцчишася церковнаго входа и молитвы за новопреданныя чины и служения в церкви, и не токмо российстии архиереи, и народи смущахуся, колеблющеся о новопременении законов церковных: и зело зазираху новолюбителю продерзому: но и от греческих вселенских патриархов, Афанасий Пателарий Константинопольский партиарх пред Паисеем престол державый: за мятеж же и мсущение междуусобное оставив престол, и российских краев достиже: муж добраго жития и постоянства изряднаго: иже видя в России действующияся от Никона мятежи и смущения в церкви зазираше Никону и советноком его о дерзости нововнесения: ими же колебляху непреподобне смущающе российскую церковь. чесо ради и не прият быв от Никона, якоже подобает патриарху вселенскому прииматися, ниже чести достойныя, ниже на соборе председания и седалища сподоблен по чину архиерейства. во оное убо время собором составляемым Афанасий вселенский патриарх не звашеся, ниже на соборе бываше, в Москве присутствующ: якоже глаголют: во 163 [1655] году по седмотысящном времени, в неже и соборы о новосоставлении на Москве собираемы бываху, аще и глаголет творец новопечатныя Пращицы, яко Афанасий Пателарий, зазираше Никону о двоеперстном сложении, и о прочих древлецерковных содержаниих: но обличается отсюду, яко тогда Афанасий на Москве бяше. егда Никон новины завождаше, егда соборы собираше, егда Антиохийский, и Сербский, патриарси быша: Афанасий ниже на соборах, ниже советованиих бяше. аще убо зазираше Никону, по Пращице, о древлеправославных преданиих, вскую на соборы не призывашеся, вскую пределов онаго собора не подписываше, вскую на соборе не председаше вселенский и первый патриарх сущь. Антиохийскаго и Сербскаго патриархов имя проглашашеся, и рука подписоваше: Константинопольскаго же Афанасия ниже имя возглашашеся на соборе, ниже рука подтверждаше уставленая: Аще бы Афанасий соглашался с Никоном о новопреданиих, всяко бы на соборе председательствовал, всяко бы своеручно подписался, а понеже на соборе не бяше, и рукою писменно собора не подтверждаше, явственно есть, и зело явственно, яко не соглашашеся с Никоном, но зазираше тому о предерзостных начинаниих, самыя вещы отъезжения того преясно показуют: яко несогласия ради, и мятежа Никонова, отъеде во иныя страны и едучи патриарх оный на границах польских в местечке глаголемем Лубне преставися: глаголют же достовернии свидетели, яко по преставлении оный патриарх вселенский, и ныне тамо почивает седящи, и видимо, и десная рука его на благословение сложена двема перстома, по древлецерковному сложению: мнози от любителей древлецерковнаго предания начаша тамо приезжати, и смотрети онаго перстосложения; еже уведавше новолюбители, руку оную у новопреставльшагося патриарха Афанасия обвивше: невидимо и непознаваемо перстосложение оно устроиша. И сия убо о Афанасии Пателарии. Мы же паки к настоящему по долгу о никоновых прегорчайших трудоначинаниих возвратимся.
Сице убо никонова нововнесения начало: коль премногия мятежи породи: коль безчисленная смущения содея, коль прегорчайшыя овощи России приплоды. что же самое действие, еже есть правление книг, новоиздание друкарное, разослание во вся российския концы! каковы ужасны и многотрепетны российским концем показа виды, ими же концем российским сотвори плакати и стонати неутешно! егда бо никоновым неблагоговейным подвигом но рыданий достойным, древния святыя книги в патриархии и в типографии заградишася. и не токмо заградишася, и похулишася, и не похулишася токмо, но и ересьми порекошася. оле нестерпимыя хулы. оле вседерзостнаго безчестия отеческаго еже на своя отцы, отеческая недостойная чада дерзнуша, труды святыя отец, поты преподобныя подвиги всекрасныя, не постыдешася пребезумнии ересию порицати! о таковых непщую псалмопевцу предвозвещати, положиша на небеси уста своя, и язык их прейде по земли. Вместо же сих святых книг напечатал Никон новыя книги, нарече я новоисправныя: нанося сим наречением на древния книги неисправление и непотребность. Аще же кто оныя книги никоновы добре разсмотрит, и разсмотрив наречет новотравленныя, не погрешит истины. ибо премногия присеяшася в них исправления от иностранных обычаев. если кто хощет искати латинских догматствований, в них обрящет. если польских припеваний, в них обитают. если папежских обычаев, в них узаконишася. если сомнительных и ужасных чиноположений, в них довольно насадишася, не о падежах етимологийский, не о речениих синтаксических порицающе зазираем: яже и во иосифовской типографии книгах изрядне и всекрасне полагахуся, и ни един россиянин в порицании в грех впадающ явися; но о толиких премногих чиноположениих, о толь безчисленных древних законопременениих, о толь пренеизчетных церковных именах; яже всяческое человек изчисление превосходят, яже оныя новоисправныя книги в себе многоплачевно замыкают. не есть бо таковыя книги, яже в себе безчисленных новин не замыкают, не есть церковныя службы, яже премногими новинами не помазася. не есть чина церковнаго, иже нововнесениями не повредися. и что глаголю о книгах и чиноположениих, не есть псалма онаго, не есть канона онаго. стихер оных, яже новинами, изменении, отложении и приложении неразтлевшихся. таковыя убо книги, в них же яко предреченныя о сложении перстов, и прочыя нововнесенныя догматы, и предания тако прилоги и отмены напечаташася, во всероссийския земли одержание, во вся епархии, потщася многомятежия родитель многотщательне разслати. Елико бо миторполий, елико градов, елико великих обителей, елико монастырей, елико сел и весей: всюду указы царския от Никона разсылахуся, всюду новоправленныя посылахуся книги, и посыланием оным везде мятежи многия, смущения великия и треволнения содевахуся в народе; книги бо оныя новопечатныя служебники архиерейския и иерейския требники, псалтыри и часословцы и прочыя по всем церквам, елико градских и сельских и пустынных бяше, всюду раздаваху, по оным псалмы читати повелевающе. и не сие токмо, но и указы посылахуся и посланницы всюду архиерейстии разъезжаху: дорники от церквей древния ими же просфоры печаташа, на них же трисоставный крест воображен обирающе: о моих слез! Отъемлется крест от просфор, иже кровию Владычнею освященный, иже самого владыку на себе понесый: отъемлется крест страшное и превелие оружие Христово, прободшее диавола и всю силу его упразднившее. отъемлется крест небеснаго царя всепрекрасная печать, им же вси знаменающеся избавляемся лютых, вместо же онаго двочастный крест на просфорах вновополагатися повелевашеся. и не до сих токмо происходит новшество, но и благословляти священником инако предавашеся, и знаменоватися народом инако уставляшеся, и молитву творити Исусову инако учими бываху; древлецерковное же православное уставление вседерзостно от церкви отметашеся. увы многоплачевнаго российскаго безчестия. увы никогда же оплаканнаго великороссиян срама. по шестистех и множае летех по крещении прешедших, еще россияне новей вере учатся: учатся архиереи и священницы аки язычницы благословляти и служити, учатся народи знаменатися и молитву творити, аки варвари иностраннии, аки незнающии ниже Бога ниже закона. Всюду во многословущей России епархия всякая изобильствова мятежами, град всякий смущения наполнися, обитель всякая, село и место всякое возкипе многомятежными волнами. истее рещи, сердце всякое, душа всякая, печали несносныя, смущения нетерпимаго наполнени быша: на всяком месте говори и плищи всенародни, и безчисленни быша: новых бо книг прияти всюду не хотяху, старопечатных же держати запрещахуся; частыми указами и посылками; но обыкшии народи и священницы много исперва ревноваху, стояти и мужествовати в древлецерковнем благочестии, аще и не зело постоятельно, обаче держаху древлецерковныя законы: мнози же от священнаго чина и явственно сопротивишася Никону в новопременах, не токмо не приемлюще, но и обличающе его законопреступление и дерзость, яко предозназеннии архиерей Павел с прочими, яко соловецтии отцы, яко велиции пустыннии старцы, и инии многочисленнии, иже крепко держахуся благочестия, неуступающе в неуступаемых и в постоятельных крепкостоятельно стояху, и вси народи российстии елико держахуся древлецерковнаго всеспасительнаго благочестия; предобрым обычаем влекоми толико о никоновом всепечальном новоизменении, зело премного волновахуся, многосмущенными мятежами и всемрачными окружахуся обуреваньми.
Видев Никон патриарх со своими советники, яко своими хитростьми и кознодействы ничтоже успевает ниже увещаньми, ниже соборами, ниже царскими указами и посланиями не возможе российскаго народа к своей преклонити воли. наконец что дивно умышляет, что ужасно содевает; посылает повсюду проповедники, кия; узы. посылает благовестники, кия; темницы. учители, кия; биения, мучительства, томления, нестернпимая, мучения страшная, и ужасныя смерти, и неповестительная умертвия, ими же вся страны российския державы наполни, ими же велие трясения всеужасный трус на российскую землю преужасно восшуме. Аще кто наречет оную беду фиал излиянный на российское море кровопролитием, уморяющий немилостивно душы живыя: аще наречет трус великий, не бывый прежде толико и тако великий, елико предивныя России Божие ограждение, в три части разсекший многорыдательно. от онаго великаго многокроваваго фиала, от онаго всепреужаснаго труса, всю Россию престрашно восколебавшаго: который град не потресеся, кая епархия не вотрепета; кое село кровию не полияся, кая весь кровными каплями не обагрися, кое место струями не потече, неповинныя наполнившися крове, колици Божии священницы немилостивным прелютейшаго мучения преострешим мечем снедошася. колици велиции отцы сурово смерти предашеся, колици предобрии пустынницы всеизостренным мучительства серпом яростне пожати быша. о колики честныя и благородныя персоны безчестно и звероподобно томительною смертию кончани быша, колики народы безчисленныя преходящыя исчитание, различными образы и виды преужаснаго мучения всепрегорцей предашася смерти. о колици вымышлений показашася, нестерпимых мучений виды; иностранных языческих смертей наношения, ужас трепетный, колебание престрашное, плачь и рыдание превелие, не токмо человеком зрящым, но и нечувственней содевающая твари, кто убо таковая видяй, не восплачет болезнено; кая душа не ужаснется; кое сердце боголюбивое не вострепещет; кое око источников слез не источит. толикими прекровавых мучительств зрении преужасаемо; и кая вина толикаго и столь презеннаго мучения бяше; но еже древнее благочестие неущерблено храняху; кое устремление толь премногия ярости на неповинныя кипяше; но еже к никоновым новинам не пристаху, сих ради многообразным мучениям злодейственным казнем, смертем прежесточайшым немилостивно предаваеми, настоящаго живота злодейственно предобрии лишени быша, обаче мужественною душею, великодушным сердцем, неужасным дерзновением прелютая сия мучения, таковыя презельныя страсти, и самую нуждную смерть, всерадостно и благоревностно подъяша, за будущий пресладкий покой, вечнаго блаженства, по гласу всецарствующаго пророка: проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси нас в покой.
О коих прежестоких новомучительств нынешних всероссийских пастырей, о коих многотерпеливых великомужественных страданий дивных и всехрабрых страдальцев, толико крепко, толико всехрабро, за древлецерковныя благочестивыя догматы ставших: елико не пощадевших за оныя, ниже своих плотей, ниже кровий, ниже самых душ, но вся себе всеусердно на раны и смерти отдавших да светлость благочестия всепрекрасно соблюдут целу. их же аще кто наречет всехрабрыя Ахиллесы не погрешит, аще мужественныя Екторы именует, не погрешит; аще великосильныя Самсоны глаголет, не будет посмеятелен: ибо не мнози на многия неприятели, ниже едини на единаго соперника: но едини противу толиким полком диявольским, противу толиким видимым мучителем, пртиву толиким ранам и скорбем обостившеся; толь всехрабро, толь премужественно вся супостаты одолеша: яко предивный позор, и всекрасное удивление всему миру, не токмо человеком, но и ангелом быша: по гласу предивнаго Божия сосуда, позор быхом миру и ангелом и человеком (Коринф. 131). О сих и глаголати, и писати настоящее историческое словотечение понуждает, страдания самая оных, веледушное терпение самое, крепкомужественныя храбрости самыя руку бренную воздвизающе, трость неодушевленную двизательне поостряют к написанию, откуду и в труд словособрания, на оных страдальческия уповающе молитвы, всежелательно всупихом. написати же возжелахом, не о всех именословне, ибо превыше исчисления суть: ниже о всех преславных действиях оных тонкочастне, занеже пребольше сочтения обретаются: но елицы начальнейшии во храбрстве преславнаго страдания быша, елицы дивнии во страдании, предивная показавше действа, сих настоящия повести всежелательное изъявление ищет, на свет всесладчайшаго зрения пресветлое оных мужества страдание всеясне представити. представляем же по чину изрядства преславных престолоначальствий каждыя епархии, в российстей земли утвержения, да тако предобрым чином, всепреизряднаго представления преславное и всепредивное позорище пречудных венечников всепрежалостно позорствовавше, всеусердно и преудивительно всепредивнаго в дивесех
Господа Бога восхвалим: с царепророком всесладостно возглашающе:
яко дивна сотвори Господь
(Псалом 97).
НАЧАЛО ИСТОРИИ
ЧАСТЬ 1.
О МОСКОВСКИХ СТРАДАЛЬЦЕХ
Гряди убо на царственнейшее тризнеще, в самое митроградное воинствования поле: и виждь начальный град российскаго царствия, не толико златом сияющ, елико кровию неповинною обагряющся преславных страдальцев; виждь никонова новосаждения суровое и кровавое изгнетение, виждь и крепкия Христа моего оруженосцы, за слово свидетельства того, всехрабро страдавшыя!
ГЛАВА 1.
О Павле епископе Коломенском
Начальник онаго добраго воинства не от простаго народа бяше, ниже от поселянска препутия, но пастырь Христова стада, страж бодрый церковныя доброты, труба златокованная благочестия, сосуду избранному яко ревностию, тако именем согласный, архиерей чудный Коломенска града: сего богатство ревности, изобилие разума, постоянство твердости, время оное на светильник явления изнесши, пресветло всем показа: егда бо Никон собор собравши коварством вся подъиде, якобы древлепечатныя книги с древлехаратейыми и с древлеписменными несогласны, исправити подобает, прочии архиереови и священнаго чина простою верою повериша тому, мняше истиннаго того пастыря быти: но не Павел тезоименный верховному, ему же очеса и внутренняя отверста; позна овчим одеянием прикрытаго волка, дивным дерзновением о древлецерковнем благочестии толико сопротивоста: елико Никону на онаго и ко вселенским патриархом писати жалобныя книги. глаголют же неции, яко по никонову принуждению тогда подписывахуся к свитку российстии архиереи, аще к написанному, аще к ненаписанному, известно о сем глаголати не хощу: дивный же Павел Коломенский архиерей дивное подписание предивно начерта, не сложение некое, не соглашение кое, от младенчества страха бываемое показа: но мужественный церковный глас пречудне назнамена. «Аще кто от обычных преданий святыя кафолическия церкве отъимет, или приложит к ним, или инако развратит, анафема да будет». Сим начертанием великомужественным никоново сердце яко оружием преострым тако всекрепко прободеся, откуду Никон не може презлобныя ярости удержати, но призвав предивнаго Павла своима того рукама (оле всезлобныя ярости) бияше по священному священнаго лицу: не усрамився священства великаго чина, не устыдевся святости честных седин мужа, ниже апостольских убоявся правил, извержение наносящих таковая дерзающим, отсюду себе показуя удобно являше; яко не пастырскою ревностию, но мучительскою лютостию, нововнесенныя ввождаше догматы; что убо доблий Павел, еда убоявся досады; еде смалодушествова о безчестии: никакоже. но непреклонен яко столп в древлецерковнем благочестии стояше, и многая тому предлагаше Никон патриарх увещания, и лестная словеса, и прежде, и тогда, и послежде, еже преклонити того к своему намерению: не улучи на малодушнаго, но на крепкаго и велико душнаго воина. предлагаше Никон древлепечатных книг простонаречие, неудобренное красотословие: пртиву полагаше Павел простое истинны евангельския, рыбарственное апостольския проповеди: Никон предлагаше правление книг новопечатных нуждно быти: яко по правилом грамматическа художества, действоватися происходит: Павел противу полагаше, не по правилом грамматикийским новшества полагаются: кия убо правила трисоставный крест с просфор отметают, кая грамматика двема перстома знаменатися возбраняет; кий синтаксис пятию перстами благословляти уставляет: кая пиитика аллилуиа трегубити узаконяет; не по правилом грамматики седмицу просфор в службе отмещете, символ приложеньми и отложеньми умножаете, поклоны в посты отъемлете. сих всех грамматика, ниже учит, ниже законополагает, но древнее предание святыя кафолическия церкве учительства и гласы святых церковных учителей, и греческих и российских, обычай всекрасный древлецерковный, неизменно от грек приятый, неизменно до нас сохраненный, неизменно до конца содержатися должный, по написанию святых отец: мы убо древнему законоположению церковному последуем, мы заповедания святых отец соблюдаем. Еще же и клятв отеческих и запрещений боятися должно глаголющих: проклят разоряяй уставы отеческия, и непременныя уставы церковныя, яже положиша отцы твои. Никон предлагаше греков новопечатныя книги, нынешния обычаи, днешняя чиносодержания, имже последовати увещеваше, Павел противополагаше греческия новопечатныя книги, древлеписменным греческим весьма не согласны: занеже печатаются в латинских странах, и растленне печатаются. в них же и Духа Святаго исхождение от Отца и сына догматствуется, и обливание в крещении[7], и ина латинская заблуждения првсеяшася, откуду и не суть достоверни: противополагаше и о грецех, яко нынешния обычаи греческия древним греческим обычаем и преданием несходны суть, триперстное их знамение, и пятиперстное благословение, несогласно древлегреческим учителем Феодориту, Мелетию, Петру Дамаскину, Никифору Панагиоту и Максиму Греку, словесы своими богодухновенными двема перстома и креститися и благословляти научающым: несогласно и всей древлевосточней кафоличестей церкви, иконными изображении, двоеперстное сложение всеобдержно изъявляющей, несогласно и святым апостолом, чрез дивнаго евангелиста и живописца Луку, иконным изображением, и самого Христа Бога двема перстома своя ученики благословивша показующым. предлагаше о грецех, яко под страхом агарянския державы живуще неволею, и нуждами стеснени, оным сообщаются, и многая чинов церковных, и преданий преступают. О чесом посланный от Иосифа патриарха Арсений Суханов свидетельствует. Показоваше Никону древлехаратейный устав словенский, писанный в лето 5900[?], в нем же яко о поклонех во святый великий пост, и в прочыя, тако и на прежеосвященной, и в вечер 50-цы с коленома главы преклоняти повелевается, и прочыя уставы и обычаи согласно старопечатным книгам. Сими и иными показании, Павлова богодухновенныя уста, Никона всего безгласна всего осрамлена показаша; иже не могий увещаньми духоносну одолети мужу, на ярость и гнев паки обращашеся: книгу оную устав отъяти повеле, самого богоносна Павла темнице предаде. писав на него Константинопольскому Паисию, стояние и крепость мужа поведая: и оттуду о сем безответсвие прият, еже в Скрижали в послании Паисиеве обретается. таже Никон патриарх, егда ниже страхом, ниже биеньми, ниже темницами и оковами того преклонити не возможе; во оземствие заточения посылает, во един от убогих монастырей именуем Палеостровский, к северным странам, в Олонецтем уезде, близ студенаго моря лежащий, тамо предивному Павлу на малое время долготерпительно препроводившу: и ясным гласом и светлою душею древлецерковнаго благочестия светлость свободно проповедающу, не возмогоша стерпети новинцы[8] ревности богоносна мужа: паки оттуду к новоградским странам отвезше (Оле немилостивыя суровости) по томлении многом священнаго епископа, несвященнии в срубе соделанном огненней смерти немилостивно предаша. Тако всесвященный павел, приносяй Господеви священныя жертвы, себе жертву преосвященную Владыце принесе, огнем вседобре испечесе, добрый бысть пастырь за догматы отеческия свою душу предаде всерадостно.
ГЛАВА 2.
О Данииле протопопе Костромском
Еще же и добрии советницы, и всеблагоревностнии свойственницы, предобляго Павла, яко в совете стояния о благочестии, тако и в терпении за христианския догматы, предивнии сострадальцы явишася, дивный и твердодушный муж Даниил протопоп Костромский: иже в самое начало новопремены, Никоново познавше коварство со Аввакумом протопопом вкупе. и от книг святых древлецерковных яко о двуперстном сложении крестнаго знамения, тако и о поклонех в великий пост благотщательно собравше, прошение царю подаша, жалобу на Никона приносяще. в нем же написаша, яко двема перстома клятвою осуждаются, тако и коленопреклонения не творящии во святыя посты, от церкве низлагаются, и с еретики анафематствуются: царь же прием оных прошение, ничтоже сотвори, имяше бо веру лестным Никона ухищрением. Никон егда услыша Данилову ревность, и к царю на себе жалобу, природною яростию возжегся посылает яти Даниила: его же приведена како ругательно обезчести, како немилостивно томи, како гневояростно умучи, при царе безчестно главу остриг, безчестно одеяние содрав, ругательно священнаго мужа непреподобный, в хлебницу Чудова монастыря отвести повеле: и тако великими томленьми того безочиво помучив, егда крепость того разслабити твердодушное низложити не возможе, наконец чт умышляет; в заточение небесных ищущаго селений посылает. и коим неслышанным безчестием, оле нрава безчеловечна венец терновый на дивнаго Даниила, яко на Христа моего иудеи, возложиша, и тако во оземствие во Астраханский град привезше, в земленую темницу посадиша, но великомужественный страдалец радуяся безчестие претерпе, веселяся язвы Христовы на теле своем ношаше, благодушно во всемрачней темнице седяше благодатию Владычней осияваем, в ней же гладом и нуждами довольно томим всеблагодарственно терпяше, и от всемрачныя темницы, к незаходимому солнцу Христу за Его же законы пострадав, радуяся взыде.
ГЛАВА 3.
О Логине протопрезвитере Муромском
Пречудный в ревности, и красный в страдании Логин протопрезвитер Муромский, во оноже новозакония Никона время, толикия предоблий исполнися храбрости[9]: елико всюду народы укрепляше, стояти твердо в древлецерковнем благочестии, Никоновых новин не приемлющым. откуду нестерпимо бяше Никону, того ревность слышати, но послав воины повеле того безчестно взяти, и тому приведену во время литургии в соборную церковь к Никону патриарху, ту сущу и самому царю, на своем царстем стоящу месте. и егда священный Логин к вопросам Никоновым благоревностно отвещеваше, мужественно древлецерковное благочестие защищаше, всехрабрственно обличаше непреподобныя новин премены: сими всеизрядными всеизрядныя ревности глаголы предивнаго Логина. Никон уязвися возкипе яростию, ниже места святаго устыдеся, ниже времене страшнаго: но во время великаго входа, остриже его, и не токмо се, но и одежду с него сняти повеле, и не токму едину, но и вторую, и во единой срачице остави его, благоревностный же Логин, дивным рвением яко лев возуповав, обличаше Никона, порицая непреподобная его начинания, ими же смущаше, колебля великороссийския народы, и распоясався снем с себя срачицу, верже чрез праг олтарный к Никону глаголя: отъял еси одежди моя верхния ругая мя, се и срачицу отдаю ти, не боюся безчестия: наг изыдох из чрева матери моея, наг и в землю возвращуся. откуду наипаче возгореся гневом патриарх, повеле в цепь предобляго Логина сковати, и тако из церкве скована ругательно влачити, метлами биющым, и даже до Богоявленскаго монастыря тако того влекоша, биюще, и ругающеся, во ужасный позор всем зрящим, и привлекше священнаго мужа, несвященнии воини в монастырь, иже за торгом, во едину храмину нага затвориша, ни единаго человеколюбия показавше; но и воины Никон пристави, еже твердо и неослабно стрещи его, дабы от человек или знаемых того посетил ничтоже. и понеже Христов страдалец, от всех оставлен и презрен бысть, и сродных и знаемых страха ради патриарша, и наг в затворении всеблагодарно терпяше. что творит чудодейственный Бог своею благодатию того согревает; во ону нощь невидимо страдальцу посылает и одежду теплую, и шапку на главу его; да священнаго Давыда, священное исполнится слово: сохранит Господь вся любящая Его. оно внезапное удивление, возвестиша стрегущии патриарху Никону: он же нисколько сему не удивися, ниже раскаяся о злобе, юже наведе блажнику. но разсмеявся рече: знаю аз оныя пустосвяты, и повеле шапку от крепкаго отъяти страдальца, теплую же одежду тому оставити, таже томленьми того различными немилосердно мучив безвестно сослав, живота настоящаго лиши. Предивный же страдалец радуяся нужды и скорби претерпе. и самыя горчайшия не устрашився смерти: но сладце вся за любовь Владычню долготерпеливно и благодарственно к безсмертному и присносущему Владыце востече всерадостно.
ГЛАВА 4[10].
О Аввакуме протопопе
Присовокупляется с сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум протопоп, муж елико добраго и воздержательнаго жития, толико великия и огнепальныя ревности: и коль великодушием изобильный, толь и многостраданием обогащенный, иже земному царю, князем и боляром за праведное жизни знаем и любим бяше: и небесному царю, ангелом и святым всем, за многострадальное терпение возжелен показася, иже всюду добры и прполезны клевреты писно имяше, в благопребывании други, в стоянии за благочестие советники, и в терпении сострадальцы: и всюду доброревностен предоблий обреташеся, колико убо премногая времена страдаше, в коликих премногих томлениих облагашеся, колико премножайшая оземствия, заточения и темницы великодушно терпяше: но неподвижимо при благочестии стоя пребываше. ибо от самаго начала новшеств внесения, всеизрядне к великим подвигом обострися, с предивными, Павлом, Даниилом и Логином всеблагоревностне советующе, и Никоново обличающе оплазство, и царскому величеству на онаго жалобныя подаяху книги. откуду Никон на благоревностнаго Аввакума всеяростным огнем возгореся. служащу оному всенощное бдение в церкви Пресвятыя Богородицы Казанскаго образа на площади, и множеству народа предстоящу со всежелательным молением, прискочиша посланнии патриархом воини яша блаженнаго яко злодея немилостивно, ничтоже зла сотворшаго: и тако немилостивно того яша: яко ниже пения скончати, ниже службы святыя совершити ослабивше, ниже народа предстоящаго пощадевше, сице всеяростному Никону повелевшу: но и от народа 60 человек поимавше, прочым разбежавшымся, в темницу отведоша. дивнаго же добропобедника на патриарший двор отведоша, узами обложиша. заутра Никон во Андроников монастырь отслав того в темную храмину затвори немилостивно, и гладом томити приказа. но что добрый страдалец, темницу яко многоценную светлицу, тяжкий глад яко всекрасное прохлаждение вменяше, от человек презираем Божиею благодатию питашеся. во оном монастыри четыре седмицы седяше скован, различныя озлобления, томления, немилостивная досаждения, присная ругания, подсмеятельная влачения, за влася терзания, заплевания от держащих досадительно приимаше. Но душею крепкий не изнемогаше с Павлом вопия: кто изнемогает, и аз не изнемогаю. оттуду паки на патриарший двор привезше того безчестно, патриарху представиша: колико убо Никон потщався, того крепость низложити: киих ласканий не изнесе; всяку кознь, всяку хитрость подвизая, да превратит твердодушнаго. но ничтоже успети возможе: вся бо ухищрения и кознодейства Никонова доблий яко паучину растерза, немощны и отнюд недейственны показа, паки отвозим бывает во оный же монастырь. и по времени некоем, хождению крестному в Москве сущу: паки приведен бяше доблий в соборный храм, ту сущу самому царю: и разгневався Никон повеле того безчестно и ругательно острищи: но заступлением царевым от сего свобожден бысть, любяше бо царь благоревностнаго Аввакума, и почиташе за доброе житие его: но Никоновыми хитростьми обязан веру емляше тому яко патриару. вместо же острижения великодушный страдалец в заточения оземствование в далечайшыя сибирския страны отвозится, в самыя глубочайшыя пределы за великим езером Байкалом сущыя, на самых границах варварских стоящыя, нарицаемыя Дауры, и с женою своею и с чады отводим бывает в толь далеко отстоящую страну, елико в пятилетнее время ему тамо достигнути, закосненое шествия, и по местом медления во оном немилостивом заточении. в таковом далечайшем путешествии, которыми не истесняшеся нуждами, которыми не облагашеся теснотами, которых томлений ругательных не претерпеваше, вседоблий страдалец. от воздушныя тягости, от путнаго труда, от возящих досаждения, и ругательства, елика тому наношаху несмысленнии. предан бо бысть некоему мужу от начальник, определенному на властительство в Дауры: безчеловечну сущу и вселютейшему томителю, зверю паче, а не человеку нарещися достойну: за всеяростное нрава к сему же и повеление тому от патриарха Никона бяше, всякое томление наносити священному страдальцу. Но кий язык изглаголет; кая уста исповедати возмогут: яже претерпе адамантская она душа, от всезлобнаго мучителя, яже руганий множества, яже по ланитом ударения, яже за власы терзания, яже по главе биения, яже по хребту, яже по прочим частем тела; оплевания лица, поругания и смеяния, некогда и в воду метания: и не токмо се, но и до толика возкипе дерзостию беззаконный мучитель, еже и обнажити священнаго страдальца на страдание повеле, не устыдеся священства великаго сана, не усрамися мзрядныя честности, и дивныя святости мужа, и како устыдитися приимет, егда толикая ругания, безчестне тому предпоказа. совлечену убо бывшу страдальцу (оле нрава безчеловечна) повелевает седмиюдесять и двема ударома кнутом того уязвити. и не токмо сам сие делаше Пашков, но и служащии тому раби подобонравни в мучительстве господину: многажды страстотерпца бияху и ругахуся, иногда же тако разъярившеся всегневно, яко и на кол ругательно посадити его уготовиша: но Бог своим премудрым промыслом сохрани своего раба от таковаго конечнаго ругания. Что убо благоревностный страдалец, во оных превеликих томлениих, в безчеловечных мучениих, како оная терпяше, яко неисповедимая мучительства носити благодарне можаше; яко всехрабрый воин, яко всепредобрый подвижник, сладце Господа Исуса язвы с Павлом на теле ношаше, пресладкий глас он присно глаголя: Христос моя жизнь, Христос мое утешение, Христос ми подтверждение: кого убоюся; аще и камения громаду на мене намещут, аз со отеческим преданием древлецерковнаго благочестия, и под камением лягу радостне. о ревности всекрасныя, о гласа всепресладкаго, о любве всепревозжеленныя, единому Павлу последовательныя, вопиющему: вся могу о укрепляющем мя Христе. время убо некое в заточении бывшу предивному страдальцу, аще шестолетное, аще пятолетное, глаголати не имам: прииде царево повеление свобождающее от заточения онаго, и к Москве возвратитися повелевающее. той же яко в заточении живый, тако и вспять возвращаяся: всюду свободным гласом, и благоревностною душею, древняго благочестия светлость пресветло проповедаше. Егда же в царствующий град прииде, князи и боляре тако любезно его прияша, яко ангела Божия, и самому царю о нем возвестиша. иже с любовию того призвав, главу свою ко благословению преклонив, и свою десницу на целование тому милостивне подав, словеса мирная и жалостная с воздыханием тому беседовав, благодарно и милостивно отпусти. И понеже добрый страдалец ревнуя о благочестии, всюду свободным языком сие проповедаше: духовныя власти державному государю словесы клеветаша, да запретит Аввакуму о учении яко волит. Государь не хотяше добляго оскорбити, ведый жития онаго святость: посла болярина Иродиона Стрешнева, увещевати Аввакума, да не обличает новин Никоном утвержденных, но о себе яко хощет да содевает всякую милость к нему за сие обещевая. вмале уступившу в молчании страдальцу, царь и царица и вси царския крове превысочайшия персоны, и князи и боляре преизобильно того имением награждаху. но яко невозможно есть светильнику скрыватися под спудом, тако всеблагодатней ревности заграждатися молчанием. Паки язык Аввакумов вопиет, паки уста взывают, паки десница пишет! и что написует; прошение к царю, да Никона от патриаршества отставит, да древнее благочестие уставит, да патриарха инаго благочестива и богобоязнена устроит. и оное прошение чрез верных своих цареви подает. Откуду царь паки печален явися ко блаженному, и духовных властей наношеньми, и изостренными языки возбужден посылает наречие ко страдальцу, чрез болярина Петра Салтыкова: архиереи на тебе жалуются, яко опустошил еси церкви и отвратил еси люди от вхождения в Божия храмы, от ныне паки да пойдеши в заточение в поморския пределы, на Мезень сослан с женою и чады: лето тамо и пол пребысть, паки в Москву привезен. и понеже духовнии посылающе много того увещеваху, ласкаху и различная ухищрения показуеще, не могоша от стояния твердости ослабити, в соборную церковь приведше, ругательно того остригше от священства извергают: ниже сим насытившеся зверояростнии: но и проклинати добляго мужа и по всему православна не убояшася. что же той, в надежди Божии живый: толико мужественно оное безчестие радостно терпяше, елико ко извергающым вопияше: аще и извергаете мя беззаконна, не боюся вашего извержения, имам бо хиротонию от православных патриархов, юже и ношу православно. аще и проклинаете мя дерзостно, недейственна есть клятва ваша, понеже неправедна, неправедна же понеже за древлецерковное святое содержание, за святыя отеческия догматы, проклинаете безочиво: сами суще повинни тяжчайшым запрещением, и жесточайшым клятвам толикая смущения, толь премногия новины в церковь продерзостно вносящии; откуду власти духовнии, недуховныя ярости наполнившеся, со всяким безчестием блаженнаго из церкве извлекше в монастырь заточиша. и толико ругание соделаша непреподобнии, елико и браду священному страдальцу (оле нрва безсрамна) отрезаша, и лютыми томленьми тамо, и безчеловечными, седмьнадесять седмиц крепкаго томиша. во оной темнице в монастыре на Угреши седя предоблий, яко человек унынием объяся, яко сице обруган бысть, елико и варварстии языци не показуют, занеже и браду его власти остригоша, о колико предоблий о сем ко Владыце вопияше, колико слезы и вопли излия, милости и утешения в горцей прося печали! и что бывает дивное; что содевается преславное; восхоте всемилосердый Господь своего раба в велицей утешити печали, а полунощи поющу страдальцу утреню и чтущу святое евангелие в самый торжественный день Вознесения Владычня. явися ему ангел Господень светлым и радостным лицем, таже и пресвятая Владычица Богородица аки из облака, посем и сам всесладкий Владыка Христос явися, и всепресладостно ко предивному страдальцу возглашаше: не бойся, аз есмь с тобою. от сего видения колико премноги радости, какова неизглаголанна веселия, о каковы преестественны сладости страдальческая исполнися душа, на землю пад Владыце поклонися, и лотоле на земли лежаше, дондеже преестественное оно видение прейде. откуду вседоблий, всепредобляго мужества наполнився: предоблий Давыдов глас вопияше: аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое: аще востанет на мя брань, На Христа Бога аз уповаю. таже кровем неповинным радующиися духовнии, подходят царя, и многими клеветами и наносами возбуждают монарха дати ответ лютейшею смертию страдальца казнити: но прилежным молением царицы, и присным заступлением от сего избавлен бысть дивный победник: осужден бывает в заточение, в монастырь Пафнутия Боровскаго, идеже во узах целое годищное время всякую нужду и томление терпяше, посем паки в Москву взят, и по многом влачении и безчестии, и различных с духовными разговорех пред вселенскими патриархи представляется, Паисею Александрийским, и Макарием Антиохийским: и чрез преводчика многия разговоры, многая увещания, о церковных догматех тому быша. наконец вселенстии патриарси таковая к нему рекоша: вся страны вселенныя треми персты крестятся: ты един упорствовати противу всем ожесточаяся, двема перстома знаменаешися. что же страдалец противу сим ответствова; страны вселенныя уже мраком различных отступлений объяшася. Рим пред многими низвержеся леты, лютеране, и кальвиняне, всех отеческих обнажися преданий, вашя восточныя страны агарянским насилием опустошены, многая от церковных преданий испровергоша. с ними же и знаменование крестное, в сложении перстов. аз же научихся не ныне, и не от днешних непостоянных учителей, но от древних. учат мя восточнии святии, Мелетий, Феодорит, Петр Дамаскин, преподобный Максим Грек, учат гречестии древнии иконописцы на святых иконах изъявляюще, и сами святии апостоли, на образе Богоматере двоперстно Христа благословляюща изображающе. учат российстии святии, и соборне и особне: тако вси согласне и обще, и знаменатися и благословляти двема перстома научают. премолчаша вселенстии патриарси, росийстии же архиереи яко хамовы подражатели на своя святыя отцы, оле дерзостнаго языка, восташа глаголюще: неразумни и неучени российстии святии быша, и безграмотни. возревнова к сим страдалец о очестем безчестии, и словесы дерзновенными толико их дерзости великодушно поноси: елико всем собором воставше, сами архиереи и патриарси, торгати и бити блаженнаго начаша глаголюще: возми, возми, яко всех нас обезчести, таковыми поношеньми. по оном терзании о аллилуии и прочих преданиих разглагольствовати начаша, и о всех подобныя ответы приимаху от страдалбца. и многа убо разглагольствия, увещания и страхи предлагающе твердаго столпа поколебати не возмогоша. паки узам и темницам отсылают. начальника с воины стрещи страдальца определивше. паки царь посылает блаженному комнатныя своя боляры, Артемона и Доментия Башмакова с наречием: прося благословления и молитвы тому. и всему двору его царскому, и моляще страдальца да послушает его, и соединится со вселенскими патриархи, поне отчасти. на что всеблагоревностный страдалец державному убо благодарение посылает, о вселенских патриарсех, кое мне к ним приобщение рече, или кая часть отвергающым древлецерковныя догматы, и отеческая предания: никогдаже с таковыми аз сообщуся: сладчайши мне таковаго приобщения смерть, и любезнейши будет, часта убо и многа от царя наречия к великодушному мужу тогда быша посланы: конечное наречие страдальцу воздаде царь: идеже будеши отче, не забуди о нас ко Господу моляся. Но аще и милость царева и человеколюбие ко блаженному непременна бяше. обаче духовных злоба и языкоболие изостренно належаше, и властно премогаше. откуду и паки в дальнее заточение той страдалец, истее же рещи дивный великопобедник посылается. Во остров Пустозерский близ самаго Ледовитаго моря к полунощным странам лежащий, и тамо с прочими сострадальцы в земленую темницу осуждени, многое время, даже до самыя блаженныя кончины пребыша неисходно. коль премногая тамо, коль неизчетная озлобления всехрабрый подвижник претерпе, толикими премножайшими мучении томлен, толикими многчисленными заточении и оземствовании дручен, толикими премногими леты в страдании пребывая, и в претяжких озлоблениих, яко изчислятися страданию его двадесятим и осмим летом, но в сих и толь премногих летах, еда смалодушествова терпя: никакоже. но яко всехрабрый воин, яко всеблагоревностный Илиин подражатель, онаго предоблий глас возглашаше присно, ревнуя поревновах по Господе Бозе Вседержители. ревностно начало, ревностно многолетное страдания течение, благоревностен и конец терпения благоревностне показа, во 189 лете [1681] в Пустозерском острозе за древлее благочестие, на страстной неделе, в самый день страстей Христовых, страстотерпческою смертию огнесожжения осужден, ко всежелаемому Владыце огненною колесницею пламене восхищен от здешняго жития, всестрадальчески исходит. Аще и Димитрий Ростовский, и Пращицы списатель неправедными наношеньми неистинная баснословия сшивати на вседобляго тщится, аки о Троице и о смотрении неправомудрствующа вменяют. но разрешается отсюду наношение неправды. колико убо всепредоблий сей име разглагольствий, колико сопрений, колико о вере стязаний, с Никоном, со архиереи, со вселенскими патриархи. и ни един от сих прорече того, или обличи, во оном лжеплетенном по Пращице мудровании; аще быша узрели за ним сие не быша умолчали. и не токмо сии, но и послежде не быша умолчали Жезл собором сочиняющии, не быша уветотворцы оставили. А понеже вси сии ниже до мала о сем зазреша или прорекоша, явственно есть, яко солгася по притчи общеглаголания, ничтоже тако удобнейше есть солгати, якоже на умершаго. Занеже свидетельствует предобляго страдальца православие, священный символ веры, егоже повседневно глаголаше, яко единосущна Отцу Сына, тако и воплотившагося неложно исповедаше. свидетельствует того крестное знаменование в сложении перстов: в немже яко треми перстами, великим и двема малыми тайну святыя Троицы триипостасное и единосущное отцепреданне, присно исповедаше, тако двема перстома указательным и великосредним тайну всеспасителнаго воплощения православно изъявляше, единаго Христа во двою естеству, и единой ипостаси, последовательно отцем, и всей древлеправославней церкви, благочестно и вероваше и исповедоваше, и за сие всерадостно страдав, великодушно умрети изволи. свидетельствует и сам предоблий своеручным писанием, еже о своей жизни при скончании своем, све православие изъявив написа, в немже святый символ святаго Афанасия Великаго написав, в котором едино естество Святыя Троицы, едину волю и владычество еще и таинство вочеловечения Спасова, православно со святым Афанасием исповедав, на конце онаго исповедания таковая глаголет, по вышереченному Афанасию, сице: аз пртопоп Аввакум верую, сице исповедую, с сим живу и умираю. что убо сих словес благочестивейши; что сея веры православнейши; что исповедания сего святейши есть; свидетельствует наипаче оный дивный Феодор диакон: с нимже по баснословии прение бысть о Троице и прочем. явственно и преявственно разрешает недоумение пред самым и в самом часе кончания, простився благословися у предобляго Аввакума, и друг друга друголюбезне лобызавше, исходным целованием. сим благословением и святым целованием, дивный Феодор предобляго Аввакума православна и благочестива изъявив показа. аще бы ведал неправославна, не бы простился, не бы благословися у онаго, не бы исходным целованием лобызася. а понеже вся сия единодушно и любезно содеяша, явственно и зело явственно. елико от вышепоказанных свидетельств, сице и от сего, яко общее православие общекупно содержаша. за кое благочестие во едином срубе с предоблими сострадальцы всеблаженную огнепальную кончину всерадостне, единодушне подъяша, единомысленне во благочестии стоявше. единомысленно в небесный востекоша град: по реченному, Бог вселяет единомысленныя в дом.
[…]
ГЛАВА 10.
О болярыни Феодосии Морозовых, и княгини Евдокии Урусовых, и с прочими
Предивно тогда и некия от великоблагородных жен аще и женами их нарещи лепо: яко премужественно путь страдания претекоша, великая в страдательном терпении, великая в сигклитикиях Феодосия, великих боляр Морозовых, яже богатьством премногим тако кипящая, яко крестьян до осми тысящ, двора до четырех сот слуг имущи: славою толь премного сияющи, яко прочая царския державы бяше, и присно повседневно в царских дворех бывающи. и сестра ея благоревностная княгиня Евдокия, Урусовых князей: и благородная в женах Мария: с ними же предобрая сих начальница, и спасения учительница инокиня Иустина, славныя жены, преславно и всехрабро, тризнище страдальчества претекше победным увязошася венцем. их же страдание тако бысть. Понеже великая и предивная сигклитикия Феодосия, кравчая царския державы бяше присно водворяшеся в доме монаршестем. И егда новины Никоновы смущати и колебати Россию начаша, сия занеже древняго благочестия, всеблагодатная ревнительница бяше, нача помалу царских укланятися дворов и приметатися в домех древлецерковнаго благочестия любителей. отсюду в царстем доме, яко от царя, тако от царицы присно вопрошаема бяше: чесо ради не обретается присно в царстем дворе; и егда уведа монарх, яко сего ради не приходит, понеже древлецерковнаго благочестия держится, тогда призывает оную к себе, увещавая ю покаритися царстей воли, и архиерейским собором. киих увещаний не показа; коих обещаний не сотвори; которых словес ласкательных не издаде оней еже Никоновы новины приятии. Но что оная предивная в ревности, предивная и в разсуждении сигклитикия; дивне монарху отвещеваше: Вашему царскому величеству всегда покорны бехом и есмы и будем: от прародителей бо сему наказахомся, и от апостола учимся Бога боятися и царя почитати. к новинам же Никона патриарха пристати никогда же дерзнем. ибо от благочестивых родителей рождении во благочестии воспитахомся, измлада священных навыкохом писмен, от пелен Божиим научихомся законом; не отвержемся оных, ими же добре обучихомся. не преступим отеческих святых пределов, не загладим писмен, ими же священнее во священней церкви воспитани быхом: древлеправославно научени сущее, новопреучитися, и новыми сими водитися законы, никогда и никакоже смеем, отеческих запрещений и страшных клятв ужасающееся, зело боимся и трепещем. видев самодержец, яко преславная сия не покаряется сигклитикия и к новинам пристати не хощет. Архиереом о сих яко отцем предлагает. тии же обыкоша своя догматы дивным учением кровопролития утверждати, советуют и увещавают монарха, оную преславную болярыню, и с нею сущыя, гражданскому суду отдати. егда отданным сим в безмилосердное истязание, что страшное, что ужасное на них соделаша; како благородныя узами обругаша; како славныя темницами обезчестиша; како пречестныя мученьми немилостивно растерзаша; слышити: собравшымся честным и великим боляром, Долгорукову, Воротынскому, Сергиеву, и прочым, нощи сущей, привозится и дивная в терпении Феодосия, на двор испытания. уготовляются мучительныя сосуды, реброломательная предлагаются орудия, огнь великий возгнещается: сим уготовленным: князь Иоанн, Воротынской глаголаше: благородная сигклитикие Феодосие, видиши ли огнь, зриши ли орудия мучительная тебе ради и на тя уготованная! прочее послушай нас, прими новозданныя книги и догматы: да первую честь и славу от монарха и от нас приимеши. Что же всехрабрая душа; что великомужественная страстотерпица отвеща: о бедный княже Иоанне, что ми огнем угасающим и вещным грозиши, его же присно возгнещах в домашних потребах аще печение, аще варение, аще домосогретие, сим присно содействовах, откуду не толико сего огня обычнаго и угасающаго боюся, елико трепещу вечнаго и неугасающаго пламене, хотящаго безконечно вся палити законопреступныя. Сим реченным, судии повелеша прежде взятии сестру ея, благородную княгиню Евдокию, и на древе мучительнем повесити, нагу и мучити немилостивно. таже и самую великоблагородную сигклитикию, многотерпеливую Феодосию повесиша нагу: Оле свирепаго немилосердия судящих, не устыдешася толикаго благородия, не усрамишася честности оных, не помиловаша слабости женска пола; но всеяростно пролияша неповинныя крови, уязвиша праведныя плоти, раниша преподобных телеса, упестриша хребты их многокровавыми глубочайшими ранами, кроме всякаго студа зрения: и не дивно: архиереом на своя главы вземлющым пролияние праведныя крове! таже снемше с мучительнаго древа, наги на землю повергоша, зиме сущи велице, и снегу многу на земли лежащу. оле безчеловечия конечнаго, и каменосердечных утроб, христиане глаголющиися, христиан православных, и честных во благородии святыя законы соблюдающих, паче злодеев, паче разбойников, ненавистно и всеругательно мучат ниже малыя капли человеколюбия показующе. что же всеблагий Господь; еда презре, еда остави своя страстотерпицы тако в лютых безпомощны; никакоже. не призрело на сих человеческое око, но Божие милосердие призре. не согрела сих людская одежда в зимний мраз, но Божия благодать и кроме одежди и тако одея, тако тепло согре, яко и снег окрест сих растая, и благодатную теплоту страждущым всепремилостивно подаде. обаче не согреяшася милосердием архиерейския души, не растаяша жестокая судящых сердца. но по лютейших сих язвах, по многокроволиятельном мучении, осуждают неповинныя яко во гроб живы, яко в земленую, во граде Боровске немилостивно сия темницу скрывшее; яко ниже света сего, ниже солнца видимаго дают зрети достойным небеснаго светосияния. во оной темнице дивныя и многострадательныя жены, коль премужественно, коль всехрабро, коль всеблагоревностно претерпеша: яко даже до самыя смерти, до самаго исхода душевнаго, веледушно скорби и беды понесоша: четыри седяще пятолетное время обхождение. во оной темнице живущее, гладом, хладом и нуждами присно преболезненно томими и уморяеми, преставишася от всемрачныя и прегорькия темницы в присносущий и немерцающий свет будущаго блаженнаго наследия.
Предивны жены, како пострадаша, зрити;
Богатьство, славу тако попраша, блажити;
Преславну четверицу не держат полаты;
Доброт взявшее пленницу носят венцы златы.
ГЛАВА 11.
О отце Спиридоне Потемкиных
В кое время, и великий отец Спиридон пресветло сияше: елико благородием славный Потемкиных боляр рода сый, анексея имяше в царских водворяющася полатах: толико и великоразумием изобильный, четырьми языки всеизрядно книги чтяше. и художественнаго ведения не неискусен, наипаче жития добродетельнаго, ревности всеблагодатныя бяше. потязаше убо новшества, потязаше и книгоправления, потязаше и нововводимыя догматы и предания, свободнейшим языком. И понеже благороден сый и многоразумен, еще и сродники имый многомогущыя у монарха, терпяху тому архиереи потязающу. Колико той прошашеся на разглагольство ко архиереом, но не приемляху: колико моляше собор сотворити со онаго прибытием, но не повиновахуся: видящее того мужа многоискусна и научена. откуду всеизрядныя его не стерпевшее ревности, отсылают во убогий монастырь Покровский, неисходно ту житии повелевающе. И егда Новоградский митрополит Макарий умре: прииде анексей дивнаго Спиридона Феодор Ртищев от монарха к великому сему отцу, с наречием таковым: царское величество, тебе честнаго отца жалует, на Новгородскую митрополию, во архиереи. На сия богомудрый отец что отвещаваше; вижду Российскую землю смущаему, и архиерейския престолы новинами потрясаемы. зрю и отеческия клятвы, и древлецерковныя анафемы смотряю: имже вседерзский Никон Российскую церковь новопреданьми возмутив, под отеческая запрещения подверже. не хощу на престоле седети преступающем древлецерковное благочестие, не желаю чести привносящия отеческия клятвы; многоценнейши имам убогую сию храмину, обогащенную благочестием, паче пребогатаго архиерейства, лишеннаго древлеправославнаго предания, лучши во убожестве и заточении житии изволяю, со отеческими законы: неже в богатстве и прохладе под анафемою срамно ликовати. отвеща посланный: о коль мнози ищут имением многим и дарми, доступающе сего престола. ты же туне себе дарствуемаго отвращаешися. противу коим богомудрый рече страдалец: не ищу превысоких престолов чести, не желаю многоценных стяжаний, не взыскую пребогатых сокровищь, но вся сия уметы вменяю, да единаго Христа приобрящу. о всеблагодатныя ревности, о великаго разсуждения великаго Божия человека, имже всякия земныя чести и славы отрекся, во оном оземствовании убогаго монастыря, во убогой келлийце всеблагодарственно нищету и скудость терпя, всерадостно благочестным концем преставися; от нищия и убогия колибы в пребогатыя чертоги небеснаго царствия, их же желаше, преславно преселен бысть.
Спиридон дивны чести велика.
Ревности всепрекрасны разума толика:
Высоты чести презре на земли премноги:
В преславну церковь в небе, чудно вознесе ноги!
[…]
ГЛАВА 20.
О отце Прохоре
Дивное зде Божия благодати, на всепредивнем отце Прохоре показуется. егда бо слуху воинскому огласившу страхом пустынная жилища, обитателие пустыннии бежати и укрытися тщение имяху: тогда и спостницы и ученицы Прохоровы уготовльшеся на бежание, самаго старца зваху бежати. пречудный отец отлагаше некако бежание, но притужаху онии понуждающе того того изыти и укрытися. Что же богопросвещенныя очеса Прохорова предзряху: что богоблагодатная уста предивнаго отца провещаша: идите рече чада и укрыйтеся скоро, мене оставльше. Ибо аз прежде вас тако убежу, яко никогдаже постижен буду ловящими. отшедшым блаженнаго учеником, востав преподобный старец, возже свещу, кадило уготова, фимиам вложи в кадильницу. сотвори кажение, яко образом святым, тако и всю покадив келлию, таже что; молитвы и правило исходное многослезно совершив: воином уже приближающымся к келлии: той на одре возлег. Крестным знамением оградився. руце крестообразно к персем приложив, абие душу предаде Богови. оле дивнаго предзрения богоноснаго отца убежа гонителей видимых, утече и невидимых гонителей, ко всеблагому Владыце, в безсмертная покоища по нужднем и скорбнем пребывании вселяется. Вскочивше воини в келлию и видяще странную вещь, свщу возжену, кадило благоухания дымящеся: святолепна старца бездыхания благолепно лежаща; страхом объяти скоро от келлии отбегоша. еже уведавше послежде неции благочестивых христолюбцев, пришедше любовию, тело блаженнаго вземше, обычным погребением обычне землею тое покрывают, благодарственныя песни со удивлением Христу возсылающе, покрывшему удивительно своего раба.
Прохор отец крилато гонителей кова
Вселяется избежав в покой вышня крова.
ГЛАВА 21.
О отце Вавиле
Тогда и всепредивный отец Вавила, дивнаго Прохора ученик сый, дивными мужества острое поле страдания претерпе дивне. Бяше убо всекрасный Вавила рода иноземческа, веры люторския, учения художественна, вся художественныя науки прошед, аще грамматики правоглаголание, аще риторики красоторечение, аще логики словоплетение, аще философии любомудрие, аще богословия всеблагодатную высоту; вся добре ведый и без огреза, и глаголати и писати. в славней парижстей академии учився довольна лета. языки же многими греческим, латинским, еврейским, немецкими всеми. напоследок и славенским добре и всеизрядне ведый глаголати. в царство убо богоизбраннаго царя и самодержца Михаила, в сияющую православием пришед Россию, осиян быв всепресветлыми благочестия лучами; оставляет мрак отеческия прелести: и яко из лавиринфа некоего, тако от бездвернаго люторскаго вредословия изшед, банею паки бытия во имя Троицы порождается, треми погруженьми и возгруженьми тридневное погребение и востание Спасово изобразив всекрасне всепрекрасный животворнаго воскресения сын исходит, и всеблагодатное чадо света является. и яко всемрачныя люторовы избеже прелести в кафолическую святую церковь прибег: тако и мирскаго мятежа и многосуетствия отлучився, во пристанище спасения приходит всизрядный бывает любомудрец любомудрствует о добрых, познавает лучшая. творит философскую душу любомудрия святыми украшая нравы. от светскаго бывает инок, от мирожителя пустынножитель, от гордящагося и сластолюбца, смирен, воздержник, и терпения всекрасный адамант показася; и понеже убо толико естественною силою изобильствова, елико за три человека и множае можаше и носити и делати: железы свою силу самоизволительно смиряет, вериги тяжки на себе положив железами же чресла своя опоясав; тако крестоносно страдаше; тако терпение Владычне всекрасно собою изображаше; прежде же всех свою волю и своя желания, мечем послушания заклав умертви. Чудный послушник и ученик вышеявленнаго пречюднаго отца Прохора бывает: оттоле время течения своего все неотторжено с ним пребывая. Егда убо новины Никоновы, всероссийския церкве корабль прекрасный многобурно нашедше возволноваша, тогда в тишине безмолвия пребывая премудрый Вавила: коль предивными мудрости словесы, како всепреизостренными благодати стрелами, на церковныя смутители непогрешительно стреляя, всехрабро поражаше оныя. всяку коварства оных хитрость, яко паучины сеть удобно раздираше. стрелы бо сильнаго изощрены, вся в древлецерковнем благочестии непоколебимо пребывати учаше люди. откуду нестерпимо бяше понести волнующим новшествы всероссийское пристанище; яти Вавилу прежде всех начальницу с воины повелевают. егда же предивнаго отца онии зверонравнии воини поимавше: во град к прелютому и жестокому начальнику приводят: жестоко и гневно на того оный воззрев глаголаше: вскую, злый старче, царскаго величества указом противистеся, и от посланных взяти вас бегаете; На которая словеса дивный старец дивныя даяше ответы. не видехом убо, ниже познавахом, яко воини суть и иже нас взяти послани быша. понеже воинов не есть обычай иноческая жилища грабити. воинов не есть нрав разоряти пустынных обиталища, воинов не есть нрав брань и сражение ко мнихом, никогоже досадити, или обидети ведящым; но воинов ополчение, не на нищих и убогих старцев бывает, но противу неприятелем государства, противу варваром и язычником, оружия на христианы воздвизающым. еже бо грабити своя подданныя, еже пустынники нестяжательныя разоряти, еже иноки обижати, не есть воинов, но разбойников, злодейственных мужей обычай. откуду и мы бежахом видяще нрав лютости разбойническия, вменихом разбойники на нас пришедшая, а не воины; иже нравом злодейственнаго пришествия виде чина своего закрыша. Противу сим устыдевся судия, своею осуждаем совестию, на молчание уклонися. таже к дивному отцу кротко простирает увещевательную беседу, глаголя: предстателие церкве российския, святейший патриарх, преосвященнии митрополиты, со всеми церковными соборы молят твое преподобие приняти новоправленныя книги и новоутверженныя в России догматы. еже треми перстами креститися. еже двоечастному кресту покланятися. еже аллилуиа трегубити с приглашением слава Тебе Боже. И прочая православная предания в новопечатных изображенная книгах, яко сыну церковному всепокорно прияти. Что убо всепремудрый отец противу сим глагола; кая златостуйная изливаше речения; послушай: Аз, о судие, не зело в древних летех: к российстей кафолическаго православия приступих церкви, не мню бо вящьши тридесятих лет сему быти. не яко во младенчестве неразумия безиспытно прияху веру. Но испытуя испытах православия непорочность. испытав же познах чудное доброты, познав, всеверне приях, прием же очистихся, просветихся и обогатихся дивным православия богатством. еда убо неправославна бяше в России вера: ейже благовразумительно научихся: ей православна.. еда неправославно бяше крестное знамение, ему же всепрелюбезно от души привязахся: ей православно. еда догматы и предания неблагочестны беша, ими же мя тогда увериша, воистину благочестивы и православны. аще же православны якоже и суть: кая ина есть вера паче православныя; кия догматы ины паче благочестивых. кая церковь иная паче кафолическия, к ней же приступих. то ныне мя увещевает: яко един Господь, едина вера древлеправославная. едина церковь древлекафолическая. едино всеблагодатное крещение во оной совершаемое церкви. не солгу тебе святая и православная веро. не солгу тебе православно-кафолическая церкви. испытах единожды, веровах единожды, обещахся единожды. и приях претеплою всежелательне верою всерадостно и до ныне содержу богатсво онаго многоценнаго сокровища всерадостно и душею моею просвещаюся; аще же толикою верою прия и тако содержу еже веровах: лист ли ныне трясомый ветром буду; никакоже. облак ли безводный вихром преносимый явлюся; никогдаже. В научение ли странное и новое прилагатися возжелаю; не даждь ми Боже! се убо праведно и ясно тебе о судие извещаюся: не сломлю моих обетов, ими же всеблагодатне просветихся. не приемлю новаго сего вновоправленнаго вами благочестия, наводящаго ми отеческия клятвы и Божие негодование! ибо самое имя новости нетвердость основания являет. все бо новое, не есть древнее. Аще же не древнее есть: убо ниже отеческое. аще же не отеческое, убо ниже предание глаголатися может: но вымышление некое вновь смышленное. человеческими хитростьми изобретенное. откуду и всякия твердости отлучено есть, всякия же гнилости преполно. есть ли не твердо и гнило, убо ниже приятно быти может. верно слово и всякаго приятия достойно. И аще убо бысте имели благообучительна чувства к разсуждению добраго и вреднаго, показал бых вам новоправлений ваших многопорочную вредность, аще благоотверста слуха на послушание стяжали бысте изъявил бых нынешних догмат всепреоплазивое гнилости, и явственное сопротивления, ко отеческим всекрасным благочестия стопам; а понеже дебелостию смысла заграждаете слухи праведных глаголов слышати не хотяще: вкратце вам извествую: аз Никонова правления новин яко сам весьма соблюдаюся и бегаю, тако и прочым православным христианом всячески новин отвращатися советую всеблагодатно трепещущым отеческаго запрещения, иже соборне всеявственно вопиют: вся, яже кроме церковнаго предания, и воображения святых и приснопамятных отец содеянная, или по сем содеятися хотящая анафема. сими и прочими подобными глаголы богословесный богоноснаго Вавилы язык тако осрами безсрамие гонящих, тако затвори оных незатворяемая уста, яко весьма безгласны и немы аки рыбы показа. ничтоже ко ответу глаголати смыслящих. за стражу прочее судия повелевает положити блаженнаго, да разсмотрит, что подобает с ним сотворити. колико прошаше дивный Вавила, колико молительне притужаше судию, да отпустит его в Москву к патриарху и прочым архиереом на разглагольствие. еже видети и слышати оных некрепкия аргументы, ими же новины своя защищают, и своя православная утверждения сим предложити, ими же древлецерковное благочестие всекрепко защищается. о коем предивнаго отца прошении возвещает судия писменными листы и монаршеская и архиерейская предержащым седалища. Вскоре абие ответ приемлет, не милости излияние кое от духовных, не кротости благия к Божию человеку и мужу дивному показание, о содержащих апостольския престолы, но еже смерти предати прподобнаго отца и безвиннаго, яко злодея, мучительными орудии истязавшым огнем злодейственне испалити, всеяростно повелеша. Откуду мучительная орудия; откуду ужасныя мук виды; откуду трепетныя и кроволиятельныя инструменты, зело скоро приуготовляют; и дивный отец всепредоблий прочее приводится страдалец; таже что бывает; совлачится одежди, снимается риз. и наг к мучительным обостряется инструментом. касаются того плотей всеуранятельная орудия. Дробят преподобныя составы, члены священныя терзают. Не убо устыдешася изможденнаго постом отеческаго тела, не имущии стыда мучители, не пощадеша престарелых плотей, утвержденных подвигами святыми, не стяжавшии капли милосердия. но вся члены преподобника, вся составы праведнаго, немилостивно содробивше разтерзаша, яко плат раздранный, и яко вретище растерзано показаша; но не сломиша великодушнаго мужества, не растерзаша всекраснаго благочестия. Цело бо и неврежденно всепредивное православие сокровище, всепредивный отец соблюдаше, ураняем одолеваше, бием мучащыя побеждаше. и растерзаем немилостивно, яко камень анфраз всеблагодатно цветяше всеблагодатными добротами душу несоодоленну, сердце непобежденно, ум неподвижим, в страдании адамантски показа, устраши мучащыя, ужаси гонители, молчащыя и срамны всепреславно оныя сотвори. Что же по сем; огненную колесницу срубопаления тому соделаша, огня будущаго сынове. и яко огнеружнаго Илию огневидными конями, тако чуднаго отца Вавилу огнепламенными пламене возвышеньми, не яко на небо, но на самая небесная и пренебесная, страстотерпчски всепреславно вознесше к пренебесному Царю и Владыце всехрабра одолетеля, и всепресветла победника всекрасно представиша.
Мудрый отец Вавила коль мудро содела.
Временными изменив превечная села;
Огня колесницею взыде в небо дивно.
Покой безсмертный тамо приобрете видно.
ГЛАВА 29.
О дворянине Димитрии Хвостовых с проч
Предивнии всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы, и всепредоблии клеврети и сострадальцы, благородный и честный муж Димитрий со двема единоутробныма сестрама, Матроною и Парасковиею, честныя и добропочтенныя фамилии сущее Хвостовых дворян звание имущее. Еще же и две служительнице с ними, благородия истиннаго праотеческаго всеусердно поискавшее, праотеческое и святых отец, древлецерковное благочестие возлюбльше, твердо на нем красныя своя стопы водрузиша, с ними же и доброподвижный Василий великоновоградец отечеством и усмошвец рукавичный художеством, и Тит подобоотечественный, и равнохудожный оному, и добросердный Феодор, и Василий и девицы, Пелагия и Иулиана, и прочии числом вси четыренадесять со многострадальным Иоанном, путь мучения претекше, темницу, узы, скорби и напасти, радостно претерпеша, ревностною душею, и великомужественным сердцем, паче же, и самую нужную смерть за древнее благочестие, всесладостно избраша. Огнепалительную храмину за отеческую веру, паче красных чертог, и сладкаго мирожития изволиша приятии, превесело в сруб внидоша, превесело с молитвами души своя страдальческия к Страстоположнику и Владыце предаша, во оное срубопаления и сожжения дивных страдальцев время, предивно знамения действо дивно показася. едина бо от страждущих младая отроковица летом девятим сущая с ними во узах великодушно терпяше, с ними в темнице мрачней пребываше, с ними и осуждена огнем скончатися бяше. Егда убо приведенную к срубу узреша архиерейстии приказнии и прочии благороднии дворян персоны, на милость естественно преклонишася, удержавшее увещати оную начаша различными ласканьми; мнози честнии во дщери себе приемлющее, и богатства многа, и сладость ей обещеваху. прочым страдальцем уже в сруб отведенным и затворенным, предобляя же отроковица, ниже краем ушес внимаше оных ласкательным обещанием, но ко клевретом и сострадальцем отрывашеся, аще и не можаше, понеже нуждею держима бяше. егда же срубу запалившуся, и пламени зело возвысившуся, тогда содержащии отроковицу мнящее пострашити ю, отпустившее глаголаху к ней: аще хощеши, иди отверстыма очима во огнь; она же трикраты крестным оградившися знамением (Оле веры претеплыя и великомужественныя, паче же предивныя Божия благодати), абие вскочи во огненный сруба пламень, всерадостно и доброревностно, яко всем позаратаем, и честным персонам, и самем мучителем, преудивительно почудитися. И тако с добрыми клевреты си и сострадальцы вседоброю кончиною страдания страдальчески скончася, вседобрый и дивный образ ревности, земнообитателем остави.
Сице всеблагоревностнии страдальцы, яко добрыя овцы предоброму многострадательному последующее Иоанну ко всепредоброму небесному красно присовокупишася Пастырю верою доброю, и терпением изрядным и смертию страдальческою, к тому самому небесному Подвигоположнику, предоблии востекоша венценосцы, своих страдальческих рукоятей пребогатыя плоды, пресладостно приимати.
ГЛАВА 33.
О Лаврентии купце
Добре пострада тогда Лаврентий купец, иже куплю деяше харчевыми припасы, послежде, многоценный бисер древлецерковнаго благочестия взыскав обрете, обрет же, всерадостно обогатися, и прочия всежелательно обогащаше. Аще и не учен бяше книгам, но книги в дому имея, и отвсюду собирая собираше человеки на книгочтение и спасительныя о словесех Божиих беседы. Откуду зависть приемлет велия, люди архиерейския, чин священный и наблюдаше Яша блаженнаго и в претор отводят, оттуду в царствующий град отпущают, тамо различныя мучения, нестерпимыя раны, неудобоносимыя преболезненныя язвы Христов всерадостно подъят страдалец. Наконец в Сергиев Троицкий монастырь отвезен бывает. и коль всепреболезненно и многолюто отвозится, слышите: дельву сиесть бочку, гвоздием острым наполнившее, во оную всекрепкаго Лаврентия влагают, и отвозят во оный монастырь. что же адамантское Христова страдальца сердце в таковой преужасней муце содеваше; еда изнеможе, или мало ослабе; никакоже: но тако всехрабро и мужественно терпяше острыми гвоздми бодом и ранимь многоболезненно: всеусердно Павлов глас Павлов последователь возглашаше: аз язвы Господа Иисуса на теле моем ношу. Таже конечное пламенем того Божественныя любве горяща, зрящее новолюбители и неотторженно в древлецерковнем благочестии стояша, пламень огня всеядна того от здешних всемучительно преселивше в будущий неболезненный живот всерадостно страдальца отпущают.
ГЛАВА 53.
О Марке Олончанине
По сих страдальцех, и третий их сострадалец и клеврет, мужественный Марко, красное поле преславнаго страдания претече, яко града Олонца и рождением и обитатели бяше, тако во своем граде и дивное тризнище страдания состави. По преднаписанном убо написании и отвезении в Нов град, и егда с предоблим Александром от узилища избежаста, и Александр вскоре явися, паки поиман, и отвезен скончася, якоже речеся. Мужественный же Марко седмь лет на свободе бяше, обо укрываяся, ово смотрением Божиим сохраняем. Таже приспевшу времени того страдания, при воеводе Ловчикове и при диаке Скворцове поиман бысть, и на истязание в претор к судиям представлен, и прежде увещаньми к новинам прекланяем бяше, но обретеся муж крепкодушен, ласкательная увещания яко ветр мимо слухи препущаше, древнее благочестие яко сокровище некрадомо в сердцы всесладостно содержаше, новин Никоновых яко пламене огненнаго всеблюдательно отскакаше. Откуду и на увещания весьма непреклонен бяше, прочее на ужасное тризнище изводится и на многотрепетную и преболезненную понуждается борьбу: и первее на древе злодейственнем яко злодей повешается, и злодейческия раны, и преболезненныя язвы, и прежестокия кроволияния, паче злодеев, паче разбойников всепреболезненно подъемлет, ниже когда помыслив злодейства: и опаления разжженными железы, и реброломания клещами, немилостивно на того страдальчестей сотвориша плоти: и не токмо единою, но и второе, такожде повешения и плещеломания, и кровавыя язвы, и уранения, и ребр и всея плоти опаления немилостивно на того священнем телеси немилостивии сотворяют. Но понеже крепок бяше и тверд страдалец, адамант к терпению многоценный, и наковально к биению невредное познавашеся, ниже ласканьями преклоняем, ниже биениями и муками утомляем, ко третьему испытанию равно первыма двема того отсылают равныя паче же рещи большия и излишния язвы и ранв, мучения же и биения сугубо от премногия ярости сотворяют, но аще и многомучения и раны, и многи язвы и кроволияния страдальцу судии нанесоша, но и страстотерпец многое мужество, и преславно великодушие, и крепко адамантское сердце изъяви; елико высочайши мучительных страшилищь, и томительных уранений являшеся, толико ревностен и благодерзновенен во отвещаниих показовашеся, свободными усты и языком древлецерковное благочестие на судищи, свято и благочестиво изъявляше, свободными усты новоправление Никоново, и новыя догматы потязаше и отглаголоваше, яко всякаго сомнения и омышления достойны, и всяким мятежем и толиким мучительствам и кроволияниям в России повинни. Жестоко весьма и нестерпительно судиям страдальца мужество показовашеся, к ярости ярость, и к лютым мучениям прелютейшую муку, в прмучительный хомут страдальца, о жестокости и всеяростнаго судей гнева ужасно повелевают, еже не токмо видети, но и слышати ужас и трепет мног наносит: колико же паче самым делом искуситися, томлением сим прелютейшим. В таковое же лютейшее томление, в таковую неудобостерпимую муку вложен бысть страдалец, колико болезни, колика неудобостерпимая приемляше наляцания, егда руце к ногам прислячене, и шия со главою к коленома оным хомутом прикорчена: тогда разступахуся составы, троскотаху кости, напрягахуся жилы: паче же рещи прерывахуся, сламляхуся члены, уды тела от нужды напряжения сокрушахуся, и самя кожа плоти ужасно разседашеся от тяжести преужаснаго наляцания, и весь страдалец яко клуб некий по земли валяяся бяше. О како таковая неудобостерпимая понесе мучения; о како толь прежестокая петерпе болезни, всяко преестественныя Божия благодати, неисчерпаемым богатством по вере того преизобильно влиянным. Аще бо сломишася страдальца составы, но не сломися вера, прервашася жилы, но не прервася благочестие, разседеся кожа, но не разседеся вседобрая ревность. валяшеся по земли телом, но душевным мужеством яко столп Сионский, всекрепок и красен стояше, яко усты Владыку неусыпно призывая, тако сердцем непремолцательно во уши Господа Саваофа вопия: откуду и неудобостерпимая стерпетельно, и преужасная безбоязненно храбрски пренесе мучения, яко и мучащии постыдешася, и судии посрамившееся удивишася чудному терпению и доблести мужа. Но аще и удивишася терпению страдальца, но не помилова неповиннаго, но иный вид мучения лютости смышляют, и не менший, темя главы страдальца бритвою догола обрившее, воду самую студеножестокую возливати на нагое темя повелевают. Коль убо нестерпима сия болезнь, коль преужасна, егда вся кровь подобно каменю застановившися охладнеет; егда животная теплота изсякнет; тогда жилы посиневшее ослабеют. И вся плоть, и мозги, и составы остуденевше и посиневшее весьма умертвятся: дрожит тело, трясутся составы, клокочут зубы, и весь человек вне себе, и без себе бывает, но не страдалец дивный и доблественный, той бо аще и дрожаше плотию, но не дрожаше душею, аще и трясашеся телом, но не трясашеся сердцем, аще и озябаше естеством вещественным, но согревашеся Божиею благодатию, не дольния страсти, но внешния почести смотря, всехрабро и мужески прелютейшую сию претерпе муку; на многи и долги часы преболезненно томим, обаче крепкодушно и благоревностно пренесе оное томлениею благоревностно древнее восхваляя православие. Видящее мучащии, яко не могоша крепкаго ослабити, непобедимаго страдальца победити ниже ласканьми, ниже муками, яже жестоко нанесоша. Но твердаго столпа поколебати не возмогоша; к тому что сотворити недоумеяхуся, конечное смышление смертным наношением печатствуют: повелевают вне града срубную храмину соградити, и лозием и сламою со смолою наполнити, и тако приведшее страдальца, народу всему со слезами провождающу, на срубную колибу поставляют, идеже всехрабрый Христа моего воин на восток обратився, и на небо чувственная и мысленная очи возвед, подобающая благодарения и молитвы воздав своему Владыце и Богу, таже к народу обратився поклонением конечное всем отдаде обычное целование. Таже в сруб нивешен, и запалену срубу огнем вещественным, вещественное испек тело, яко жертву чисту Богови угодну, за Божия всеблагочестивыя пострадав законы, душу же невещественну, к невещественному препустив Владыце, в небесная невещественная отслав села. По страданиих толиких, по премногих мучениих, безсмертнаго преславно покоя достиг со избиенными за слово Божие, и свидетельство Иисус Христово безсмертно и всерадостно упокояется.
Аще и в пламень Марко, на час осудися;
Но в царствие, на веки вселися.
Славно Марка Дух Святый, в муках утверждаше;
Претерпевша же сия, всекрасно венчаше.
ГЛАВА 67.
О писаре Козме Прокошеве
Во время страдания дивною страдальцу, и добропобедней кончине ею, пострада и всеблагоревностный страдалец, благоразумный муж Козма Тимофеев именуемый Прокошев, иже бяху рождением Каргопольския области, чина писарска прикупныя во граде полаты, славою нарочит, понеже в делех приказных худог муж и искусен бяше, к сим писания божественнаго ветхаго и новаго многотщательный читатель. Откуду и разума изряднаго всекрасное себе собра богатство, яко всем приходящым к нему сладок и полезен бяше советник и наставитель, вся к себе народы паче магнита привлачая, и коегождо нужды божественных и градских законов пресветлыми разрешая словесы. Откуду любим и честен всем познавашеся и бываше, яко воеводам, приказным, благородным, тако градожителем и селообитателем: понеже вси попремногу пользовахуся дивным того благоразумием. Егда же Никоновы новины, яко прочыя Российския грады, тако Каргопольский град нашедши премногаго смущения, и всемрачная мятежа исполниша: тогда дивный Козма занеже искусен, Божиих законов ведитель бяше, не поколебася новшествы, не соотведеся пестротами новоприникших преданий, но оставль градский мятеж, презре человеческую славу и честь, в весь отечественную отходит, и тамо елико житием добродетельным, толико и книжными прочитаньми души своей сокровище некрадомо всебогато снискует. Чесо ради мнози к нему стицахуся людие, богатство разума, сладости Божиих словес, ведения о древлецерковнем благочестии всеусердно от него научаются, ревнители того ревности и разума, паче же о древлеотечестем православии далече исхождаше, яко и до самаго градца Чаранды дойде, и до самого воеводы достиже. Воевода, ибо весь оная под того правлением бяше, не незнаем бяше яко о разуме и чести первей, тако о ревности благочестия дивнаго Козмы, посылает воины честнаго мужа взяти, и гражданскому представити судищу: сурово убо суровии воини веси оныя доходят, сурово и дивнаго вземше Козму, и связавше в ладейцу всажают, путь ко граду Чаранде женуще. Той же яко доблий и благоревностный Христов воин, кроме всякаго смущения премужественною душею на тсрадания подвиг возвожашеся, тако и везущым воином вопияше: мужие братие, чесо ради ослабно везете мя; привяжите мя ко упругам ладейцы сея, да не к тому о бежании помыслю. Аще и прешедшее время во отраде и утешении мирстем многопокоительно пожих, поне от ныне любве ради моего Владыки связан безчестие и нужду претерплю; да сподоблен буду со страждущими за имя его присносущныя и безсмертныя жизни. Слышавше сия воини удивишася, и вместо тесноты и скорби, со ослабою и отрадою того везяху. приведше во град представляют честнаго мужа связана воеводскому судищу. Воззрев воевода на дивнаго страдальца, таковая к нему начат глаголати: вскую, о Прокошев, люди от церкве Божия отторгаеши, раздор мятежный и разгласие посреде народа Российскаго вносиши. Что же страдалец; не аз, рече, раздор сотворяю, не аз разгласие посреде ввожу церкве, но иже новшествам радующиися, иже отеческая взаконения и пределы предерзостно движущии. И воевода: кий зазор, или кое несогласие мы внесохом в церковь; Тогда дивный Козма отверз уста возглашаше: воньми, о честный воеводо! приятыя церковныя пределы и дивныя православия законы, яже Владимир равноапостольный крестився от святыя восточныя церкве непорочно прия, яже чрез седмь сот лет в России недвижимы и нерушимы пребывающе, всекрасное спасение содеваху человеком: Никон патриарх оныя святыя уставы и пределы дерзостно предвиже и разруши, мятежа и смущения сими разрушениями Россию наполни. Ни есть ли убо раздор и разгласие, егда святый трисоставный крест, на нем же Христос плотию распятся, на нем же святую и животворящую кровь пролия, той животворящий крест от просфор и евхаристии предерзновенно отъясте; вместо же того двочастным крестом просфоры печатати повелесте. Не есть ли разгласие во святым, егда святое православное знамение креста в сложении перстов, еже святыми апостолами паче же самем Христом преданное; еже оба таинства православныя веры благочестиво изобразует Святыя глаголю Троицы, и смотрения Спасова единаго от Святыя Троицы; еже двема перстома на челе святый и животворящий крест животворнаго страдания, двоестественнаго Христа Бога Святаго и православно изображает; тое святое и многотаинственное сложение от церкве пресмело отъясте, и клятвами стршными, и анафемами вседерзостными оле дерзости обложисте, похулисте и отвергосте, вместо же онаго святаго апостольскаго паче же Спасова предания, триперстное знамение, и пятиперстное благословение внесосте, инако священником благословляти, инако простолюдином знаменатися предасте; не убоявшееся церковных запрещений глаголющих: иже не крестится двема перстома, якоже Христос, да будет проклят. Не есть ли разгласие и раздор, еже ангельское пение сугубаго аллилуия дерзновенно изменяти и трегубити: явственно отцем святым глаголющим, трегубое аллилуия несть православных предание, но латынская ересь. Не есть ли разгласие, еже в молитве. Сына Божия именование отставляти, чрез предание и обычай святых отец, и что много глаголати, безчисленная предания отеческая отметнусте, неудобосочтенныя новины в церковь внесосте всерыдательно; ими же клятвы и анафемы отеческия на ся воспалисте; ими же премногих мятежей и смущений, и мучительных кроволияний российскую наполнисте землю; о них же и словоответствия прю воздати имате в день страшнаго испытания на ужаснем Христовем суде. Таковыми и подобными тем глаголы, вседобльственный страдалец премного удивив воеводу и вся предстоящыя, наконец сложив персты по древлецерковному преданию, и двема прекрестився перстома, светлым вопияше гласом: аз, о воеводо, тако знаменаюся, сице древлецерковныя сладце держу законы, и тако святыя отеческия сохраняю пределы, яко не единожды, но тмами за оныя умрети готов есмь, и всесладце желаю. Новых же Никоновых законовнесений и обычаев весьма отвращаюся и не приемлю, и ниже края слуха к тем приклонити смею; гласов отеческих трепеща вопиющих: вся, яже кроме учительства и воображения святых и приснопамятных отец соделанная или по сем содеятися хотящая, анафема. Еже слышав воевода, ничтоже страдальцу жестоко или тяжестно содела ил изрече, но повелевает в темницу отслати. Сам же к царствующему граду пишет о дивнем муже, и о дивнем разуме того возвещая творительному просит научитися, и донележе посланному в царствующий град и вспять ездящу, во оно время воевода яростию воскипев, предреченных страдальцев Евдокима и Григория на мучение извед горкими муками настоящаго живота лиши, яко предречеся, дивный Козма, слышав доброю подвижнику страдальческую смерть, по премногу благодарив и прославив всемогущаго Бога и Владыку, давшаго толико терпение рабома своима. К воеводе наречие сицево посылает: вскую, о честный местоначальниче и царский управителю, мене грубаго оставляеши; вскую в темнице яко во гробе затворил еси, и лишаеши предобраго страдальцев пира; Чесо ради теми же не искушаеши мученьми, яковыми страдальцы испытал еси; почто обленился еси от кроволияния, еще древо мучительное стоит, еще жилы волуи не прервашася, но крепки ранити обретаются, еще огнь не угасе, еще клещи и железа распаленная не охладнеша, и вся орудия мучительная готова, востани и подвигнися, вознесе мене агнца на жертву томления за любовь Христову. Се руце мои испревращай яко хощеши, се хребет ураняй его глубочайшими ранами, се тело пали е огнем без пощадения, се ребра ломай я без милости, се жилы и составы и кости изчитай я мучительными сочтеньми, се плоть моя, мучи томи яко хощеши, различным предавай смертем, ибо готов есмь последнюю каплю крове за любовь источити Христову. Сему наречию послану от страдальца к судии, Никий же ответ, или воздаяние получи, паки убо страдалец повторяет прошение и молительными глаголы подвизает на мучительство судию, сице глаголя: что тебе прилучися, честный судие, забвением о нас окружатися, и туне и безделием время препущати; не видиши ли, яко дни и часы текут, время быстро пребегает, а аз в темнице празден пребывая, страдальческих отлучен натрижнений. Донележе стоит позорище мучительства, изведи мя на борьбу мучений, искуси мя лютейшими пытками подвижника, да познаеши в немощней ми плоти всемогущую Христову силу; силу, юже аще оплошишися утечет борьбы позорище, аще умедлиши претечет тризма страдания; потерпиши ли мало не обрящеши в руках держимаго, помедлиши еще к тому не узриши подвижника, и раскаятися имаши о замедлении! Сим к воеводе наречием принесенным, ничтоже сотвори, ниже на ярость подвижеся, но токмо сие наречие ко страдальцу посла: потерпи мало Прокошев (глаголя) приуготовися к подвигом, придет время, и утешим тя довольно, яко хощеши. Малу времени прешедшу, прилучися воеводе мимо темницу шествовати, тогда благоревностный и вседоблий страдалец, от оконца темницы светло и ясно возглашает воеводе, паки просит, паки и молит, паки воздвизает онаго на мучительство, себе же предавает на раны и скорби и кровавыя язвы всежелательно. Обаче воевода ничтоже по желанию страдальца сотвори, но токмо остави его в темнице, темничными искушатися болезньми и скорбьми. Богу преественному преестественно полезная свыше смотряющу каждому, тако и всепредоблему и благоревностному страдальцу усмотри промысл Божий не искуситися ранами мук, но томлением терпения твердость явити. Малу времени прешедшу, и повеление от царствующаго прииде града, мучити не велящее страдальца, но темницею и гладом и хладом томити. Откуду воевода затворяет страдальца дивнаго в зломрачную темницу и гладными и хладными томит скорбьми, на многое время яко до трех седмиц. Обаче страдалец, яко многотерпеливый подвижник, благоревностно обострився и ко гладу и хладу и мраку, вся премужественно претерпевает, и удобоносно, с сосудом избранным вопия: вся могу о укрепляющем мя Христе. Всежелательно потече, всехрабро ратова, всеславно победы воздвиже, даже до самаго преставления премужествен и крепкодушен показася благодарственными гласы всеусердными хваленьми, всежелательными славословии всемогущаго Бога и Владыку благодарствоваше. Сице три седмицы, гладными удручаем томленьми, тако темничными мраки, и хладными оскорбляем прираженьми: но сердцем целым, но душею светлою, но совестию горящею, всерадостно и многосладостно, лютая и скорбная перенес. хвале Божии сущи во устех его, к Богу благочестно преставися, от всемрачныя темницы, во пречудный небеснаго царствия свет. От всетяжестнаго града во всесдадчайшее насыщение, и от всемразнаго дрожания во всеутешительную безсмертную преступи породу вечныя славы, вечных и прекрасных венцев от всецарствующаго подвигодателя, преизобильно и всеблагодатно восприимати.
Козма знатный подвижник явлься,
В привременных и вечных честный муж прославлься;
Мир вознебрег дольний, жизнь получи премирну;
Зрит ныне лучу сладку и незданну и дивну;
За нужды и глад лютый добру измень цену:
Восприят от всех Царя нетленну корону.
ГЛАВА 68.
О писаре Иоанне Красулине
Приспе ми время воспамянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех Иоанна, иже прозванием Красулин именоватися обыче, ибо красный страдания подвиг за всекрасныя отеческия законы красно совершати возусердствова.
Сей доблий и дивный муж града бяше Свияжска, чином писарь приказный, и первый от писарей, но обычая бяше благаго, и жития добродетельнаго, и нрава благоревнастнаго, и чтения в писании, и ведения благоискуснаго. Откуду, и времени пришедшу Никоновых новин, догматом новым и книгам новоправленным всюду разсылаемым, и народом к приятию оных понуждаемым: вси людие, аще и не хотящее в сети новшества увязаху, древлецерковное же благочестие святое, увы неразумия, неволею похуляюще. Дивный сей не низведеся в неразумие, не низпаде подобно прочым: но яко преднаучен бяше всепредобрыми отеческими законы, яко святыми церковными книгами, очеса души просветив всекрасно. тако познавает лучшее, избирает добрейшее, лобызает объемля древлецерковных благочестивых богатств всеизрядное сокровище. объемля же оное в сердечных всерадостно скрывает сокровищах. скрывая же обогащается преизобильно божественными благодатьми. обогатився же но явственно и светло, и языком свободным древлецерковнаго благочестия светлость благоревностно всюду возвещаше, идеже прилучашеся разглагольствовати. К сему прилучися вещь, яже наипаче ревность добляго Иоанна, новичинки же на мучительную на страдальца ярость воздвижеся. Вещь же сицевая: ко прочым новинам Никон патриарх сочини клятвы или присяги чин, имже вси властели воинствующии и приказнии, и пошлин и даней царских собиратели, присягающее кленутся пред олтарем и священником, в которой клятве таковая словеса сложи: Аще аз каковым либо происком содею или помыслю что похитити или утаити от государевых пошлин, да буду проклят и препроклят, и Каиново трясяние, и Гиозиева проказа, и Анании и Сапфиры смерть да придут на мя, и да буду отлучен Святыя Троицы. Сложившу Никону таковый чин клятвы, вси властели и даней царских собиратели, к присяге приводими бываху, и священствующии вси содеваху таковая, ничтоже о них познавающе. Предоблий же Иоаан видев таковая нелепыя и преужасныя клятвы: вся человеки отвращающия от Святыя Троицы, и в погибель предающия, нестерпимо вменяше молчати: но ревностию вседоблею предоблий разжжеся, послания ко архиереом и иереом написует зазирая оныя клятвы, поношает в таковыя клятвы понуждающих народы. в них же написует, аще и великое зло есть государевых даней, или пошлин что скрывати: обаче грех есть, аще и великий грех есть; Грех же по церковным законом епитимиями томится, запрещеньми подобающими мучится: а не от христианства и Бога отлучает весьма согрешающыя; казнятся ли таковии, но гражданскими законы, яко прочии грешницы; а не клятвам и анафемам подлагаются. Еще во оных Никоновых клятвах и за помышление, аще кто помыслит на государево пошлин или даней сокрытие клятва и отлучение Святыя Троицы положися. Но помысл есть невольное присеяние от врага присеваемое человеку или внезапное, или насильное, иже бывает не токмо о вещех случающихся, но и о безместных и изглаголатися весьма немогущих множицею же и хульнии и весьма несказаннии бывают помыслы. Обаче за помыслы епитимий и запрещений правильных не зрится; кий убо церковный помыслы запрещенми казнить, кое правило мысли паче же невольныя епитимиями томивши мучить! Аще же запрещений и епитимий за помыслы не обретается, како за помыслы от церкве отлучаете, како за мысли токмо анафеме и клятвам подлагаете христианы; како за помышления от Святыя Троицы отлучаете православныя, кроме Божиих и церковных законов! Сими клятвами и анафемами, вся народы российския вседерзостно связавшее отлучисте Бога и небеснаго наследия, тме и родству огненному наследники преокаянно сотворяете. Таковая и прочая сим подобная предоблий Иоанн в посланиих написуя, архиереом и иереом предлагаше, благоревностно зазираше Никонова новшества, добродерзновенно поношаше новосочиненным Никоном клятвам, везде и присно оныя укаряя премужественно поношаше. Чесо ради не стерпеша духовнии власти праведных праведнаго мужа словес, не себе зазреша и дерзости своей, не нововводныя догматы от зазора очистити потщашася, но на праведнаго и безвиннаго мужа неправедныя возложиша руки, поимавше его прелютейшему томлению вдаша, многотомительным оковам, всемрачным темницам, злодейственным мучениям немилостивно предают дивнаго страдальца: всяк вид безмилосерднаго томления, на того священней показующе плоти, склонити, или вмале ослабити того не возмогоша. ибо страдалец к скорбем и напастем яко столп, к томлениям и мукам яко многоценный адамант камень, к ранам и язвам яко всекрепкое наковально и бяше и познавашеся. Что по сем бывает и устрояется; в заточение многотерпеливый посылается подвижник, и во оземствование многоскорбейшее, во острог Кольский, прилежащий пучинам окианским, близ каянския земли и нордвенския, идеже зимним временем света мало есть зрети: солнечнаго светопролития не зрится. В таковем многоскорбнем заточении вседоблий много время преживе премужественно, яко лет 30, всерадостно вся лютая она и многосладостно ношаше: древлецерковное же благочестие, и отеческих законов всекрасную светлость, и тамо свободным проповедая возвещаше языком. Еже не бяше стерпительно, не бяше удобоносимо защитником новшеств: но и тамо к сущему тамо воеводе писательныя посылают указы прелютейшей смертней казни предивнаго повелевают подложити Иоанна. Бяше тогда воевода во остроге оном суров некако и злодействен, яже яростию и гневом на страдальца дыхая не почиваше. тогда же наипаче пламенем злодейственныя кипя ярости, многая прежде тому досаждения, многи язвы и раны немилостивно нанес преклонити не возможе: наконец смертней казни главнаго усечения всехрабраго подвергше Иоанна. Но смертная казнь знаменита некако и дивна устроися бытии, и преестественнаго чудесе полна, вся позоратаи премногаго удивления исполни, Богу прославляющу своего угодника пречудным прославлением. Егда бо уже повеление судищное изыде казнити блаженнаго страдальца, ведом бываше по обычаю на место, паче же сам мужественно и храбро течаше, яко на пир сладчайший, тако на смерть ступаше. Приведену на место усечения, плаха предложися, секира главоусекательная изострися, спекулатор уготовися, крововидныма очима, львояростное стремление показавшее. предивный страдалец на восток став, прилежно помолися, таже к народу обращься, конечное прощение всем сотворив, на древо главоусекательное сам возлеже. Что прочее преславное бывает; что ужасное показуется; спекулатор пришед отсече главу страдальца: отсеченная же глава отскочивши, и ставши прямо на выи, лицеем к востоку зряше. Оле преславнаго и преестественнаго видения! Кто таково чудо слыша когда: мертвая и отсеченная глава, живое и преславное показует действо; показует яко древлевосточнаго благочестия страдалец бяше, и за восточныя православныя законы пострада, тем же и по смерти глава его ко истинному востоку зряше, являя тем яко и душа онаго на небо небесное на востоки страдальчески и преславно взыде, вся позоратаи, вся собранныя народы преславно сим преславным видением удививши. Еще же к преславному чудеси, другое присовокупляется чудо и предивное: усекший страдальца спекулатор гневопопустною казнию от Бога поражен бывает ужасно, мзду своего мучительства многорыдательне подъят; ибо по главоусечении многострадательнаго Иоанна, спекулатору вострясошася руце, яко Каину древле по убийстве Авелеве; и тако всегда окаянно трясыйся, яко и самую пищу едва можаше с нуждею ко устом приносити, многажды же и не можаше; и сим трясением даже до смерти самыя колебаяся мучашеся, дерзости своея окаянно и многорыдательно плакаше. Сими дивными знаменьми, предивному Богу дивно показующу, яко древняго благочестия всепресветлую непорочность, тако предобляго страдальца неповинную и страстотерпческую кончину, приятну и любезну самому Господеви Богу. Сице всехрабрый и благоревностный Иоанн, чудную ревность показа, пречудною смертию благоревностне скончався; яко пречудный святаго восточнаго православия воин, ко всепречудному небесному воеводе и царю, цел на пренебесныя возлетает востоки.
ГЛАВА 69.
О воине Мартине и его супруге Мавре
В предреченном острозе Кольском и всеизряднии изрядно в преизрядных просияша страданиих боголюбезный Мартин и многотерпеливая Мавра, яже беста царствующаго града жителя, и чина воинска. доблий Мартин иже со иными воины определен бысть на сражение преславныя и многострадательныя сигклитикии Феодосии. Егда страдальческия натрижнения великодушно прохождаше, от тоя предивныя дивный Мартин и с супругою своею предоблею Маврою, елико о древлецерковнем благочестии добре известистася, толико к терпению страдания всехрабро помазастася: не уже к тому нощная богочетца, но ясная древлецерковнаго православия совершителя бываюта, яко крестное знамение, тако молитву Исусову и прочыя христианския православныя законы по староцерковным преданием безбоязненно всюду и ясно совершающим. Откуду и познана быста от новолюбительных священников, и духовнаго претора судиям представлена: и яко ласканьми и мягкими увещании, сице и жестокими словесы, и жесточайшими томленьми к новинам понуждаема бывша не покористася. во оземствование прочее в предреченный острог Кольский немилостивно посылаются: тако немалое время крепко прежиста, нужду заточения, стеснения глада, убожества и пустоты, премужественно и благодарственно носяща. Мартин добрый время некое прежив утаився всех, в пустынное житие благоревностно изыде, и тамо постом и молитвами, слезами и рыданьми душу свою очистив, ко Господеви и Владыце своему доброуповательно отходит. Блаженная же Мавра по того отшествии время некое преживши в Кольском острозе, подобнее теплыми молитвами и горящими моленьми, и прочими благоуханными добродетельми к Богови всекрасно приближающися, оклеветана бысть от защитников Никонова новшества иереов ко градскому воеводе Полозову тогда начальствующу, яко держится древлецерковнаго благочестия крепко, к новинам же не приставает весьма и в церкви их к новоправленным службам отнюд не приходит. Чесо ради воевода оный послав воины, повеле добропобедную Мавру взявшим представити того судищу. представленней оней, рече воевода: священницы на тя многократно доносят, яко к церкви Божией не приходиши, тако и к священником ко благословению не приступаеши. Блаженная отвеща: аз в церкви Божией яко православно родихомся, православно крестихся и воспитахся, тако до ныне всегда неотменно, православно в ней пребываю. Воевода: к нашей церкви и к нашему пению чесо ради не приходиши; Великодушная же страдалица великодушно отвеща: в вашу церковь не прихожду ради новаго служения, и новаго пения, и не только не прихожду, но и впредь ходити в вашя церквы отнюд не желаю и новоправленнаго пения слушати не даждь ми Боже. Откуду воевода львояростно разъярився, на мучение оную предавает, и сам к мучительному месту подвигся исходит. приведенне блаженной на место испытания мучительное уготовася древо, орудия мучительныя, хомуты, бичи, клещи, и прочая предложишася, одежди совлачится страдалица, руце связуются, спекулатору приведену: трясашеся весь, руце того ослабевшее содрогасте, мучити дивныя страдалицы весьма не можаше. Иному спекулатору приведену, предается на мучение блаженная. И колико жестоко, коль немилостивно мучиша немилостивии блаженную: руце сломиша прежестоко, плещи разорваша сурово, окровавиша тело, прерваша жилы, растерзаша плоть яко плат. И понеже елико тии мучаху дивную страдалицу, толико оная крепчайши и благоревностнейши показовашеся, яко изнемогаше прочее воевода, и к тому недоумеяшеся что сотворити. Но иереи градстии, тепли заступницы новин, приступившее к воеводе, моляху онаго и прошаху да не отпустит блаженныя на живот. Аще сию отпустиши живу, многи превратит во свою веру, и вся жены гражданския отвратит от церкве. Слышав сия воевода, даде смертный ответ, еже в срубе сожещи блаженную страстотерпицу. И абие храмина сруба уготовася, и предивная приведеся Мавра, и много увещеваху ю народи, и воевода трижды посылаше увещевати ю, да покорится и примет новопреданныя догматы, но блаженная ниже краем ушес о сих слышати хотяше, всерадостно бо за древнее благочестие на смерть грядяше. Таже мучащии возжегшее храмину сруба еще убеждаху, еще моляху повинутися страдалицу архиереом и новыя принятии уставы. и яко великодушно и всехрабро отрече блаженная не точию делом, не точию словом, но ниже на мысль сие принятии хощу. Сие рекше ей в сруб прочее поведоша: но всехрабрая страстотерпица прекрестившися коль великодушно, коль благоревностно на смерть грядяше: сама дверь срубныя отверзшее вниде, сама дверь оную паки затвори. Таже крестным оградившися знамением, сама во пламень огненный, Оле крепкаго и всехрабраго мужества и неодолеемыя души, великодерзновенно и всерадостно вниде: и тако пламенем опалившися, Господеви и Владыце своему, своею душею непорочно и всежелательно предаде, за того святыя законы, и благочестивая предания церковная, огнем сожжена бывши, жертва свята и богоугодна, небесному Царю преславно принесеся.
Мавра дивно правило и образ явися;
Огнь попра и муки, о Христе убелися.
Весть убо всечестная за что умирати;
За крест Господа славы, свою жизнь скончати.
Так мудрых дев чертога, достигати получи;
Всекрасныя Божия весело зрит лучи.
[1] Хлуд. нет красной строки.
[2] Хлуд. добавлено: Опатриархе Никоне.
[3] Сиротск.
[4] О его пременах в церковном предании.
[5] В кое лето оные новины в церковь внесоша.
[6] Кто обличители тех новин быша.
[7] Нужно принять во внимание, что здесь составитель говорит от себя, вкладывая упомянутыя слова в уста Павла, епископа Коломенскаго, и притом основываясь на неправильном заявлении Арсения Суханова, будто греки в крещении обливали. Но чтобы епископ Павел имел такия мысли, как сочинитель «Винограда», — исторически не доказано (Ред.).
[8] новинницы.
[9] И дивнаго дерзновения.
[10] Хлуд. гл. 3.
С.А. Афонин. О калужском литье конца 18 – начала 19 вв.
Многочисленные меднолитые иконы, кресты и складни, отливавшиеся староверами практически повсеместно, как правило, не несут на себе информации о мастере, месте и времени изготовления. Те редкие предметы наиболее раннего старообрядческого выговского литья с владельческими надписями и датами столь немногочисленны – их можно пересчитать по пальцам – и хорошо известны, что нет необходимости подробно упоминать о них. Традиция подобных надписей по сути и форме – органичное продолжение традиции Древней Руси, сохраненная староверами. Древнерусские датированные памятники предметов медного литья еще более редки и впервые среди прочих описаны Перетцом в 1933 г. (Перетц В.Н. 1933).
Но есть группа предметов икон, крестов и складней конца 18 – начала 19 века, которую можно отнести к т.н. поморской категории литья и для которой характерно наличие дат. Временные границы охватывают период с 1793 – по 1812 гг. при этом у наиболее ранних предметов эта маркировка выполнена методом клеймения, а у более поздних – обозначения дат выполнены точками с помощью тонкого чекана. Наносились клейма на оборотной стороне иконы по нижним углам в одном из них – дата, а в другом – буквы «МГ» (рис. 1,2) или изредка только «М» (рис. 3,4); есть предметы с клеймами «дата» и «МГ» на нижнем торце иконы (рис. 5,6).
Маркировка выполненная чеканом, как правило, также на оборотной стороне икон (рис. 7,8 ), крестов (рис. 9,10 ) и складней (рис. 11, 12 ) и реже на нижнем торце (рис. 13,14 ) и представляет собой буквенной обозначение даты (год), далее значок «точка» (не всегда обязательно) и буквы «М».
На эти предметы обращали пристальное внимание как исследователи старообрядческого медного литья (Е.Я. Зотова, 1993; 2003), так и частные собиратели и коллекционеры предметов старообрядческого медного литья – Семен Александрович Альперович (Москва), В.Н. Бережков, А.А. Кириков. 2004, илл. 284 дата не указана, но авторы о ней знают), Олег Николаевич Кузовков (Москва) (О.Н. Кузовков, 2014), Юрий Александрович Голубев (Москва), автор статьи (Sergei Afonin, 2018).
Наличие даты на предмете снимает вопрос датировки, однако мало что дает при определении места производства. Е.Я. Зотова (2003) предположительно относила эти произведения к московским, что, по-сути, близко к истине: качество моделей и отливок, характер обработки металла, качество и многообразие эмалей и применение золочения – все указывает на столичный/околостоличный уровень. Заключения других – опирались на иные факторы (вплоть до места происхождения предмета и прочие ) и не имели более или менее объективных основании.
Монограммы «МГ» выполненные клеймом и «М» выполненные чеканом исследователи были склонны расшифровывать как «МОСКВА» или «МОСКВА ГОРОД», а наиболее поздние даты – 1812 г. как бы указывали нам на события Московского пожара 1812 года и гибель мастерской.
Однако выявление киотного креста с маркировкой «҂ЗТФ∙М∙Й» (рис. 15,16), где следом за датой вместо привычной одиночной буквы «М» обнаружились отчетливо исполненные буквы «М∙Й», причем буква «Й» исполнена таким же способом и ничем не отличается по исполнению от других. Это обстоятельство указывало на неоднозначность и не совсем корректную интерпретацию монограмм «М» и «МГ».
Окончательно вопрос интерепретации вышеуказанных монограмм, равно как и место производства этих предметов и даже имя мастера стали известны после обнаружения чктырехстворчатого складня «Двунадесятые праздники. Поклонение иконам Богоматери» с подробной надписью в нижней части оборота третьей створы, выполненной чеканом: «…҂ЗТЗ ЛЪТО ВЫЛИТЫ ВКАЛΥГЕ∙М МИХАЙЛО…» Этот предмет оказался в коллекции моего приятеля и собирателя русского декоративно-прикладного искусства в том числе и старообрядческого медного литья Алексея Михайловича Иванова из Москвы и стал доступен для изучения (рис. 17,18).
Обнаружение четырехстворчатого складня «Двунадесятые праздники. Поклонение иконам Богоматери» с надписью в нижней части оборота третьей створы, из которой нам стало известно имя мастера, место и время производства: (рис. 19) представляется крайне важным и заставляет существенным образом пересмотреть наши представления о центрах старообрядческого медного литья, поскольку обычно подобные складни (их производство) ассоциируются либо с Выгом – литье в скитах Выгорецкого Суземка, и Олонецкого края в целом, либо с литейными мастерскими Москвы (Преображенка), в меньшей степени с литейными мастерскими Урала.
С другой стороны подобные сравнительно крупные предметы обладают большим количеством как морфологических признаков (иконография отдельных клейм, особенности палеографии и др.), так и технологическими признаками. Что в совокупности дает нам богатый сравнительный материал для атрибуции неподписных предметов меднолитой пластики 18-19вв. и пересмотру атрибуции предметов ранее относимых к другим центрам.
Надпись требует небольшого пояснения: написано не вылит (складень вылит), а именно вылиты и это не ошибка. Поскольку в то время этот тип складня называли большие праздничные створы, что и отражено в надписи: [створы] вылиты.
Оборот второй створы несет литое изображение Голгофского Креста и оно также как и праздничные клейма створ на лицевой стороне складня вызолочены (огневое золочение). И Голгофа и клейма украшены эмалью трех цветов.
Высокое качество отливки и модели, формовки при отливке в землю, слесарной работы, применение огневого золочения и качественного наложения многоцветной финифти (эмали) указывает на высокий профессиональный уровень мастеров выполнявших все эти операции, а разнообразный ассортимент известных нам изделий – позволяет говорить о достаточно крупном размахе производства.
Как известно, отметки мастера, мастерской или даты на предметах меднолитой пластики – это обычно:
- литые надписи, изначально выполненные мастером-чеканщиком на модели и тиражируемые на отливках – как например отметки мастера-чеканщика Родиона Семеновича Хрусталева – М.Р.С.Х., Р.С.Х., Ч.Р.С.Х. и др. и т.п.
- клейма, выполненные с использованием специально вырезанных стальных клейм-матриц – выбиты – М.А.П., ҂ЗТОГ.
- иные отметки исполненные чеканами (и иными подручными средствами) различных конфигураций (ЗСС, ЗС);
Владельческие надписи – как правило гравированные штихелем, процарапанные или выбитые иными способами (кернами, гвоздями, зубилами и пр) исполненные подобным образом.
Надпись на обсуждаемом складне, скорее всего, выполнена самим мастером или кем-то из мастерской, но способ ее исполнения нетипичен, но весьма характерен: мелкие и многочисленные плотнорасположенные точки – следы от чекана – образуют буквы. Подобный способ маркировки, да и характер написания самих букв нами встречался у предметов упомянутых выше и маркированных по схеме: «Дата-точка-М» или «М-точка-дата» — среди которых одновершковые иконки – эмальные и безэмальные, с бортиками и без них; двух- и трехвершковые иконы, с золочением и без; трехстворчатые складни; киотные кресты и четырехстворчатые створчатые складни (большие праздничные створы). Подробнее о предметах с подобной маркировкой – см. Кузовков О.Н (2014).
Обнаружение датированного складня вылитого в Калуге позволило сравнить его с аналогичным складнем из группы датированных предметов маркировка которых выполнена точками выбитыми чеканом (керном).
Сопоставление мельчайших деталей отливок вновь описанного подписного и датированного калужского четырехстворчатого складня 1799 года с датированным четырехстворчатым створчатым у которого дата выполненной таким же способом – точками – «҂ЗТЕI . М» (см рис. 11,12) позволили заключить, что при их изготовлении использовалась одна и та же рабочая модель (матка, матрица) – это отчетливо видно как по элементам орнамента, так и по наличию одних и тех же и в тех же местах отлитых дефектах самой модели. А это возможно при условии изготовления предметов в одной мастерской (рис. 20,21). Таким образом, и все остальные предметы с аналогичной маркировкой «точками» происходят из этой же мастерской. Эти выводы подтверждает и сходная/идентичная цветовая гамма эмалей обнаруживаемых на изделиях (белая, голубая, серо-голубая, амазонитовая, иссиня-черная), включая и киотный крест с неукладывающейся в схему маркировкой «дата – точка – М-точка-Й».
Наибольший интерес представляет четырехстворчатый складень из частного собрания Москвы с надписью на нижних торцах 2 и 3 ей створ (рис. 22) из которых мы узнаем фамилию мастера Михайло : «Михайло ГупкинЪ //Москва ∙ ҂ЗТА ∙ лЪта ∙ iюня ∙ мца». Характер надписи выполненной точками с помощью чекана и схожая до уровня смешения палеография надписей складня Мастера Михайло и мастера Михайло Гупкина позволяет нам с известной долей уверенности говорить, что мастер Михайло и Михайло Гупкин – один и тот же человек, работавший сначала в Москве, а позже по каким-то причинам перебравшийся в г.Калугу принеся с собой на калужскую землю московские модели и технологии обработки металла.
Список литературы:
- Перетц В.Н. 1933. О некоторых основаниях для датировки древнерусского медного литья/ Известия Государственной Академии Истории материальной культуры, вып. 73. Л.: Изд-во ГАИМК.
- Зотова Е.Я. 1993. Источники формирования коллекции медного литья Музея им. Андрея Рублева. С. 88-97/ Русское медное литье. Сборник статей. Выпуск 1./составитель и научный редактор С.В.Гнутова.-М.: «Сол Систем», 1993. – 192 стр.: 43 ил.
- Зотова Е.Я. 2003. Медное художественное литье XVIII-начала XX вв. старообрядческих мастерских г.Москвы: источноковедческое исследование: автореферат дис. … кандидата исторических наук: 07.00.09/ Рос. Гос. Гуманитарн. Ун-т (РГГУ). – Москва, 2003. – 22 с.
- В.Н. Бережков, А.А.Кириков. 2004. Антология православного художественного медного литья. Неизвестная Коллекция, Том 1, Книжное издание А.А.Кирикова, М.,- 287стр.
- Кузовков О.Н. 2014. Датировнная пластика литейного заведения МГ (к 220-летию добровольной маркировки медного литья).: http://mednolit.ru/forum/13-18492-1.
- Sergei Afonin. “Valettu Kalugassa…” 1700-luvun päivätyt ja signeeratut neliosaiset taiteikonit. P. 85-105.// Metall Ikonit. Valamon luostrati, 2018. 325p. ISBN: 978-952-5495-52-2.