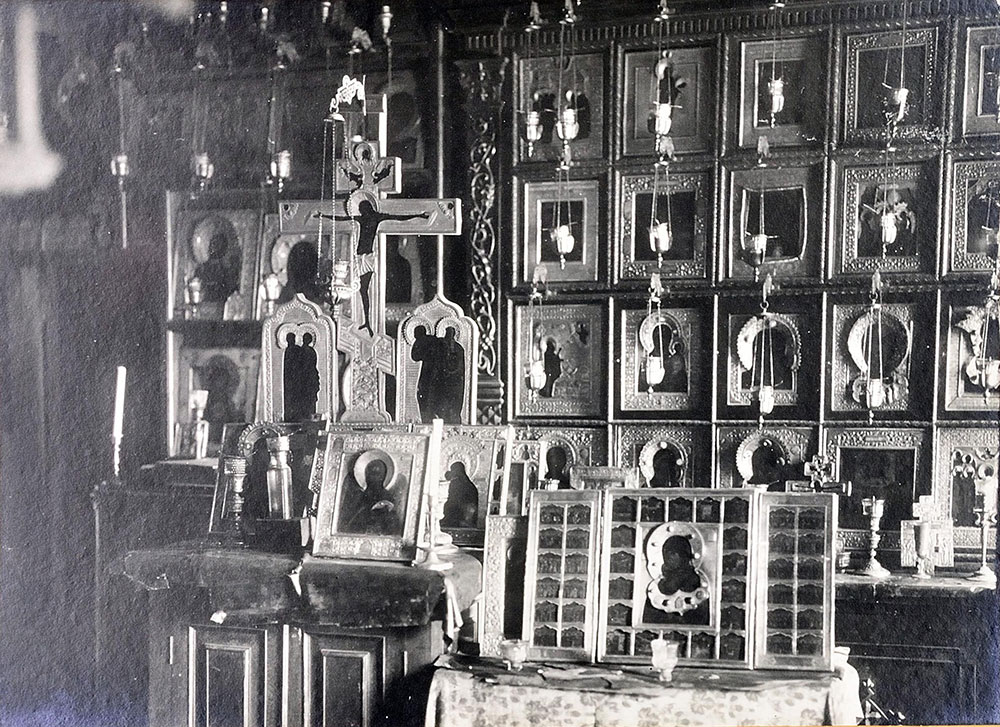А. Панкратов. Преображенский богадельный дом во время захвата Москвы французскими войсками в 1812 году
Преображенский богадельный дом во время захвата Москвы французскими войсками в 1812 году.
Время от времени в современных публикациях в том или ином варианте воспроизводится миф о том, что во время оккупации Москвы наполеоновскими войсками староверы Преображенской обители приветствовали захватчиков и даже лично выражали преданность Наполеону. Этот миф был разоблачен еще в дореволюционный период. В подтверждение этому мы публикуем материал, напечатанный в журнале «Старообрядческая Мысль» № 10, 1912 г. с. 965-970 под названием «Старообрядцы и Наполеон. (Новый документ)». Автором публикации 1912 года указан А. Панкратов. В конце напечатанного текста также помещены инициалы («Р.С.»), что, возможно, означает журнал «Русское слово», из которого, в свою очередь, перепечатала текст «Старообрядческая мысль». Публикацию подготовил профессор М.О. Шахов.
Известно обвинение, которое кидается старообрядцам:
— В двенадцатом году они изменили. В награду за измену французы охраняли Преображенское кладбище.
Когда черносотенная печать хочет ошельмовать Гучковых, она говорит:
— Их предки изменили и перекинулись к Наполеону.
Насколько в этом правды?
Старообрядец федосеевского согласия Г.Е. Смирнов передал в наше распоряжение пожелтевшую от времени рукопись письма от 23-го ноября 1814 года некоего Ивана Маркова, жившего в то время на Преображенском кладбище. К этому Маркову от провинциального старообрядца Степана Федоровича поступил запрос, каким чудом уцелел Преображенский богадельный дом от французского нашествия. Марков приводит в ответ на запрос рассказ, продиктованный ему «отцом Тимофеем Емельянычем», который «cиe плачевное время пребывал во обители неотступно». Рукопись эта нигде не была напечатана и представляет большой интерес, как правдивый рассказ очевидца. Письмо написано славянским языком.
«По вшествии своем в Москву, — рассказывает Тимофей Емельянович, — в 5 число, т.-есть в четверток, в первом часу поутру приходили три француза и усиливались крепко в передния ворота на двор, но, однако, милостью Божиею… в то время сохранены были, даже и до третьяго часа пополудни. Потом приехал французский адъютант с двумя солдатами к сим же вратам и у ворот постоял, на двор посмотрел, a ничего не спросил. И тако поехал от нас в Матросскую богадельню и тамо взял с собою семь человек французских солдат и переводчика нашего русского, знающего французский язык, и они были вcе вооруженные, конные, и приехали к самым воротам и стали нас спрашивать, что тут живут за люди; тогда мы, собравшись все престарелые, слепые и хромые, и убогие и вся больничная братия возмутились и вострепетали во отчаянии своея жизни, не знали, что нам будет, какое от Бога милосердие или за наши грехи наказание, и стали им отвечать, что здесь жительство московского общества купецкая богадельня. Маер (майор – М.Ш.) выслушав от нас такой ответ, сказал: я желаю здесь иметь квартиры и при себе иметь караульных, кои будут сохранять cиe место, только есть ли у вас сено, овес, вино и пиво или водка, говядина, куры, яйца, коровье масло, творог и прочие съестные припасы. На cиe мы отвечали, что квартира для вас будет опорожнена и справна, а вина, пива и водки у нас нет, а съестных припасов, что есть у нас, то и сказали правду.
A о вере и исповедании, и согласии никакого ни спросу, ни истязания не было.
И потом отворили наши ворота и въехали во двор все и спросили, где у вас конюшня, и поставили своих коней, и сами стали по двору расхаживать, и потом спросили, много ли у вас коров, мы сказали тридцать, и говорит он: мне потребно пять коров, которые б молока не доят, еще дайте масла и творогу и кур, яиц, муки и прочих съестных припасов; и тако все оное ему исполнено безоотговорочно. Получа он cиe от нас в то время и отъехал, а караульных при нашем месте оставил. И стояли у нас честно и обид никому ничего не творили, пили и ели все наше братское, что когда случится, больших припасов не спрашивали и каждый день сменялись то те, то другие. И тако сохранилась сия наша обитель до десятаго дня сохранно, и никаких наездов и страхов не было. И потом в восьмом часу поутру приехали французов вооруженных конных человек до пятисот или более и стали усильством и разбоем коровий двор разбивать и всякими мерами в него влезать, что одному и удалось через ворота перелезть. И ворота он отпер и отворил, и всех оных на двор впустил. Что увидя, стоящие у нас караульные солдаты и переводчик и наш хозяин Алексей Никифорович, подошед к ним, стали от разорения защищать, отчего и сделалась между оным французом и нашим караульным и переводчиком немалая штурма и спор, даже до обнажения саблей. Мы же, вышедши за ворота, стоим и глядим на них, а что делать, не знаем, токмо, воздевши руце, с умилением и слезами призываем в помощь Всемогущаго Бога… И тако неизреченною милостью Божией и щедротами караульные наши и переводчик, по многом разглагольствовании, свирепство их преодолели и от расхищения и разбою защитили, и они отъехали все прочь безо всякаго нам огорчения. Cиe видя, наши караульные тот же час послали с рапортом о случившемся нападении к своему коменданту, о чем вскоре на другой же день от него прислан оный предреченный маер. Он привез указ, писанный на французском языке, который и прибит был на воротах коровьяго двора. К тому уже, смотря на оной, не смел никто прикоснуться. И потом остался у нас во обители сам стоять на квартире и занимал покои в конторе, пять дней никуда не выезжал, проживал весьма спокойно, никаких обид нам не чинил. И продолжалось все оное время покровительством Божиим до седьмого на десять числа. И посем собравшись от нас нощию в двенадцатом часу съехал. На отъезде нам сказал последнее слово: «Прощайте, мне с вами век не видаться». И все оное было говорено через переводчика. Спустя после его отъезда два дня приехали к нам французские начальники, комендант и губернатор и прочие их чиновники с командою солдат осматривать наше жительство и все наше состоящее в нем имение. И взъехали прямо на двор стали по двору ходить и смотреть, а нам ничего неизвестно, какое их намерение и что с нами хотят делать, только на них смотрим с великим страхом и трепетом.
Во-первых, взошли в келию отца Сергея Яковлевича, потом ко мне, Тимофею Емельянычу, и везде смотрят и оглядывают, как в келиях, так и под кельями, а чего ищут, нам неизвестно, и потом пошли смотреть в амбар, где у нас мука лежит, и в кладовую, и в свечную восковую избу, и в хлебную, и все оное осмотрели с великим потщанием и прилежанием, а мы, собравшись, издали только ходим за ними и смотрим, что будет. Потом взошли в больницу, и в то время случилось у нас стоять над умершим погребение и на могилы понесли с пением «Святый Боже». И они все оное видели, а нам ничего не сказали. И с мужского двора прямо пошли на женский двор, и там везде осмотрели. Пошли в одну кладовую и увидели, что в ней стоят убогих старух сундучки и коробки, сумки и разные узелки. И, вышед вон, стали между собою говорить, что это не добре. И потом пошли в моленную на вороты, и тогда случилось в самую вечерню, и смотрели они на святыя иконы и чин церковный и с великим прилежанием и главами своими зыбали, и тако возвратились назад, и между собою разговаривают на своем языке, что это добре, это шпиталь (госпиталь). Нам же только оное и разумно, а прочее что разговаривают, неизвестно. Только сказали они переводчику: мы сюда приехали за тем, что русские обыватели доказывают, что здесь хранится множество имения московских купцов и здешнего хозяина, напитков и прочего на многие миллионы, а это, что нами усмотрено, то им и самим будет мало и не на долгое время, а от нашего императора приказу нет разорять больницы и все убогие места. И с тем поехали от нас, а караульные остались у нас; и приказали им накрепко соблюдать наше место от всяких праздношатающихся солдат и никого не пущать. И так они по приказу своих начальников и сохраняли нас с великим прилежанием, и продолжалось это время октября по 10-е число.
И потом вдруг сделалось в Москве страшное землетрясение от порохового взорвания. И от несчастного сего приключения и ужасного удару разрушилась Ивановская колокольня, Алексеевская башня, чахаусъ (цейхгаус – М.Ш), Никольския ворота, городская стена в двух местах, на что смотреть было страшно, такожде и по близости того места многия палаты претерпели повреждение, а в редком окне остались целы рамы и стеклы, и это было нoщию часу во втором за полночь. И мы в то время стояли полунощницу, и у нас от того трясения многия иконы с мест попадали, и вдруг сделался из пушки ужасный выстрел и бысть в Москве великий шум трубного гудения два дня и две нощи непрестанно. И наши караульные не мешкав ни малого часу в полночь от нас собрались и ушли. И так по неисповедимым судьбам Божиим освободися царствующий град Москва от ига французского».
Иван Марков передает, что от Наполеона был строгий приказ не разорять больниц и богаделен. Этим объясняется, что вместе с Преображенским богадельным домом были сохранены: Матросская богадельня, Шереметьевская и Голицынская больницы и Лeфopтoвский госпиталь. В Екатерининской Императорской, у Матросского моста богадельне стоял так же, как и на Преображенском кладбище, караул французских войск. Несомненно, такие же караулы стояли и во всех других больницах и богадельнях.
Преображенский дом имел в то время вид богадельни, так как все здоровые и молодые люди оттуда выехали до прихода французов в с. Ивановское, Владимирской губернии. Туда на 300 подводах были вывезены 200 девушек, живших на женском дворе, и все ценные вещи и деньги. Остались в Москве только старухи, старики и с ними в качестве «хозяина» отец Алексей Никифорович.
Так говорит правдивый источник. Совершенно иначе освещают дело враги старообрядчества. Известна их выдумка, что федосеевцы поднесли Наполеону блюдо золотых монет («ефимков») и подарили «быка с раззолоченными рогами» (!!!). Наставники Семен Кузьмич и Пафнутий Леонтьевич изъявили, будто бы, покорность Наполеону и для охраны кладовой выпросили караул. Эта ложь, возникшая в миссионерских целях в конце 50-х годов в самой общей форме, потом наслаивалась и в известной статье «расколоеда» проф. Субботина вылилась в яркую картину государственной измены. Профессор уверял даже, что сам Наполеон, в сопровождении Мюрата, был на кладбище, и что его встретили там как государя. Эту клевету не постыдился произнести с трибуны Государственного Совета прот. Буткевич, когда восставал против вероисповедного законопроекта.
Но, помимо ясного письма Ивана Маркова, клевета миссионеров и их прислужников разоблачается другими доказательствами. До конца 50-х годов никто совершенно не говорил об измене федосеевцев. В 20-х, 30-х и 40-х годах не прекращались правительственные расследования о кладбище. Это было «гонительное время». Если бы была налицо измена, то она бы непременно фигурировала в качестве обвинительного материала. Но ни в одном расследовании не говорится о ней ни слова. Тот самый «отец» Пафнутий Леонтьевич, которому проф. Субботин приписывает руководительство изменой, был в 50-х годах заключен чиновником Безаком в острог, где и умер. Безак имел обширные полномочия, «взрыл» все кладбище, чтобы достать обвинительный материал. И все-таки Пафнутия Леонтьевича мог обвинить только в устройстве монастыря без разрешения. Над А. Никифоровым, оставшимся в 1812 г. на кладбище, тоже велось следствие в 40-х годах. Но измену не вменили ему в вину, потому что её не было. В обвинениях известного Федора Алексеевича Гучкова, и особенно Семена Кузьмича, сосланных в 50-хъ годах, также могла бы фигурировать измена 1812 года, если бы она была, но им вменили в вину только управление капиталами Преображенского кладбища без ведома властей. В 1816 и последующих годах между прихожанами кладбища происходил сильный раздор. Доходили до всяких обвинений друг друга, включая укрывательство беглых, но никто никого не обвинял в государственной измене. В 1817 году Александр I потребовал сведений о московских монастырях и церквах, не было ли духовенством учинено измены в Отечественную войну. Возникло обширное следственное дело, но о Преображенском кладбище даже речи не было. Оно было вне подозрений. Если бы измена была фактом или даже слухом, духовенство прежде всего указало бы следователям на старообрядцев. В известных «Щукинскихъ сборниках», где содержится масса материала об Отечественной войне, нет ни слова об измене старообрядцев. Между тем, это факт огромной важности; мимо его историку нельзя пройти. Наконец, те историки, которые в истории видят беспристрастную науку, откровенно заявляют, что рассказ проф. Субботина об измене «не имеет фактической достоверности». Таков, например, г. Васильев, который проследил историю Преображенского кладбища по документам министерства внутренних дел и не нашел там даже намека на измену. Обвинение федосеевцев в измене клевета, которую измыслили и поддерживают сейчас в полемических целях. Эта клевета, несомненно, сыграла свою печальную роль в «гонительное время» … («Р. С.»).
Г. В. Маркелов, Ф В. Панченко. О литургическом творчестве выговцев
Во второй половине XVIII в. в Выголексинском старообрядческом поморском общежительстве были предприняты беспрецедентные попытки создания пантеона собственных местночтимых святых. В их число выговцы включили первых старообрядцев-мучеников, а также страдальцев за веру, подвизавшихся в близлежащих олонецких пределах, чьи имена освящены ореолом мученичества и благоговейной известностью по всей старообрядческой России. Однако выговцы включили в «тот пантеон и собственных киновиархов, преставившихся с миром в окружении скорбящих единоверных братии и учеников в стенах созданной ими процветающей крепкой обители.
К этому времени на Выгу сложился своеобразный этиологический комплекс для почитания местных отцов-основателей, который включал особо устроенные гробницы с мощами преподобных, их иконописные изображения, создаваемые по устоявшейся иконографической традиции. На Выгу были созданы жития и жизнеописания местных подвижников, им же было сочинено большое количество надгробных и воспоминательных слов, стихов и плачей. Выговцы писали особые молитвы своим чтимым отцам, и наконец, им были сочинены специальные церковные службы, как общие, так и индивидуальные.
Сочинение церковных служб на Выгу до сих пор не становилось предметом научного изучения, хотя и упоминалось в ряде публикаций.[1] Между тем этот вцд литературного творчества представляется важным для понимания роли и значения выговской литературной традиции, в котором раскрывается новая грань в многообразном духовном наследии поморцев.
Настоящая статья является первой публикацией авторов на данную тему и содержит предварительный обзор и краткий анализ литургических произведений выговцев по источникам, хранящимся в фондах РГИА, БАН и ИРЛИ. К настоящему времени нами выявлены 9 церковных служб, 3 канона и 29 тропарей и кондаков, принадлежащих выговским авторам.[2] Рукописи, содержащие выявленные тексты, относятся к периоду между серединой XVIII и концом XIX в. Наиболее полным по составу служб является Сборник, хранящийся в Синодальном собрании РГИА, ф. 834, оп. 1, № 841 (далее: Синод. № 841). В этой рукописи имеется оглавление, составленное известным поморским деятелем Ф. П. Бабушкиным (1752—1842). В оглавлении Бабушкин указал авторов некоторых выговских служб. На основании этих указаний тексты были атрибутированы и В. Г. Дружининым в полистных примечаниях на рукописях из его собрания, хранящегося в БАН. При детальном изучении списков нам пришлось внести коррективы в черновые атрибуции Дружинина. Свой обзор мы начнем с рассмотрения текстов, принадлежащих к разряду общих церковных служб.
Старейшая из известных нам выговских служб имеет название «Служба святым исповедником новым росийским страдальцем, пострадавшим от новолюбителей за древлевосточное церковное апостольское и отеческое благочестивое предание» (далее: «Служба исповедникам новым»), В. Г. Дружинин приписывает авторство этого текста Семену Денисову.[3] Эти сведения содержатся и в оглавлении Сборника выговских служб Синод. № 841. Тогда дата составления службы ограничивается 1741 г., годом кончины Семена Денисова. Из известных нам шести списков старейший относится к 50-м г. XVIII в.[4] Списки не содержат серьезных текстовых разночтений. Данная служба относится к типу средних церковных праздников, без малой вечерни. Перед каноном службы указано краегранесие «Защитники отеческих законов почитаю», которое читается, однако, от конца канона к началу по первым буквам тропарей и богородичное.[5] В тексте «Службы исповедникам новым» Семен Денисов использовал прием лексической анафоры в стихирах, следуя устойчивой гимнографической традиции. Например, подобен пятого гласа «Радуйся…» определяет начальные слова стихир на стиховне: «Радуйся, мысленный раю…», «Радуйся, невесто Исусова церкви…», «Радуйтеся, страдальцы всечестнии…» и т. д.
Содержанием «Службы исповедникам новым» является прославление приверженцев отеческой веры, претерпевших страдания и пытки, принявших мучительную смерть от «новолюбцев-никониан». Текст службы, насыщенный свойственными Денисову стилистикой и риторическими оборотами, привлек внимание И. И. Срезневского, который опубликовал без указания автора канон этой службы в качестве уникального образца выговской гимнографии.[6] Ирмосы для этого канона Денисов почерпнул из великопостных ирмосов, исполняемых на Страстной четверг, что придало канону особо скорбный характер. Стихиры службы не содержат исторических реалий и имен, но изобилуют яркими описаниями всевозможных горестей и мучений, которым были подвергнуты «исповедники новые».
В отличие от других рассматриваемых нами текстов, «Служба исповедникам новым» содержит стихиры, распетые на крюках. Это стихиры-славники (самогласные), известны нам по двум спискам XVIII в.[7] Можно предположить, что автором распевов этих стихир, как и самих текстов, является Семен Денисов, так как известно, что он был знатоком знаменного пения и автором надгробной стихиры Андрею Денисову.[8] Пять стихир службы распеты знаменным распевом, тексты истинноречные, некоторые фиты разведены прямо в тексте. Кроме стихир в рукописях службы имеется величание в знаменном и путевом распевах.
Вторая выговская общая служба также посвящена прославлению старообрядческих мучеников,[9] но отличается исторической конкретикой. В одном из ее старейших списков[10][11] текст имеет развернутое заглавие: «Кралковоспо- минателнаго похваления стихословие, сочиненное в подобие службы святым новым российским страдальцем», в шести других списках она обозначена как «Служба общая святым новым российским страдальцем».» В оглавлении синодального Сборника Ф. П. Бабушкин приписывает авторство этой службы Ивану Антонову, о датах жизни которого нам ничего не известно. Между тем в текстах этой службы каждая стихира посвящена конкретным историческим персонажам: Павлу Коломенскому, протопопу Аввакуму, Никанору Соловецкому, дьякону Федору, Игнатию Палеостровскому, Феодосии Морозовой, Евдокии Урусовой и другим мученикам старой веры. Именно такую службу с перечислениями по именам страдальцев видел Григорий Яковлев.[12] Если предположить, что речь идет об одном и том же тексте, то есть основания считать, что данная служба сочинена до конца 40-х гг. XVIII в.
«Служба новым российским страдальцам» относится к типу средних церковных праздников со всенощным бдением, литией и полиелеем. Краегранесия в тексте нет, зато перед каноном имеется четверостишие:
Страстотерпцы Христовы, вас пою,
Песнословя Бога, вам крепость давшаго
Молю прияти от мене песнь мою,
Величаю Его в страсти вас утвердившаго
Прославление исторических деятелей первоначальной эпохи раскола, сожженных или принявших добровольно огнепальную мученическую смерть, составляет содержание этой службы. Обратим внимание, что кроме уже упомянутых персонажей в тексте особо выделены страдальцы олонецкие, что, вероятно, было важно для выговцев. Особенностями службы являются витиеватое многословие, пространность тяжеловесных текстов, их обилие и объем. Автор последовательно использует прием звуковой анафоры не только в стихирах, но и в каноне. Первые буквы ирмосов канона в каждой песне определяют первые буквы тропарей:
Песнь 3 Ирмос «Небесному кругу »,
Тропарь «Небеснаго нетленнаго .»,
Тропарь. «Ничтоже вас .»,
Тропарь «Не един »
Термин «в подобие», использованный в заглавии службы, предполагает, как нам кажется, двоякую трактовку. С одной стороны, автор этим термином указывает на преемственность уже существующей на Выгу традиции. Например, на опыт Семена Денисова, сочинившего «Службу исповедникам новым российским страдальцам» (см. выше). Начальные слова текста «Входящим в Виноград овощный…» прямо ассоциируются с «Виноградом Российским» Семена Денисова, а содержание службы воспринимается как своеобразное гимнографическое переложение денисовского «Винограда». Тогда термин «в подобие» определяет литературного предшественника службы, и не более того.
С другой стороны, выражение «в подобие службы» можно понять как указание автора на подражание художественной форме и структуре жанра церковной службы в данном произведении, которое, в сущности, не претендует на священнодействие как таковое, а является «кратковоспоминательнаго по хваления стихословием». Отметим, что ни одна из исконных церковных служб данного типа не явилась собственно образцом для выговской «Службы новым страдальцам», в которой все стихиры самогласны, что подтверждает наше предположение о самостоятельном значении данного произведения.
Третья общая выговская служба носит во всех списках следующее название: «Служба блаженным и приснопамятным отцем нашим премудрым последняго христианска рода учителем пресловущим и с яже от них всем праведно Господеви угодившим»’3 (далее: «Служба учителям пресловущим»). В Синодальном Сборнике Ф. П. Бабушкин приписал авторство этой службы Григорию Ивановичу Корнаеву-Романовскому (1748—1796).[13][14]В. Г. Дружинин датирует время написания этой службы 1795 г.[15] Служба относится к типу средних церковных праздников. Перед каноном службы помещено краегранесие с именем автора «Григорий», переданным простой литореей:
Веи времене сего снятии ближайший
Хвалившаго чмочимое помяниг
Служба посвящена четырем основателям Выгореции: Корнилию Выговскому, Даниилу Викулину, Андрею и Семену Денисовым. В службе прославляются учительство и строительство выдающихся выговских подвижников. В тексте службы каждая из стихир на «Господи, воззвах…» посвящена каждому из персонажей. Особых литературных приемов автора в тексте не усматривается.
Перу того же Г. И. Корнаева принадлежит целый ряд гимнографических сочинений, указанных в каталоге Павла Любопытного.[16] Нами обнаружено 29 текстов тропарей и кондаков разным святым и канон Зосиме, Савватию и Герману Соловецким в Сборнике № 841 из Синодального собр. (л. 156 и след.). Данная часть сборника является авторской рукописью Г. И. Корнаева на бумаге 1788 г. Авторство данных текстов обозначено Ф. П. Бабушкиным в оглавлении сборника. Тропари и кондаки Корнаева посвящены общеправославным святым, дни памяти которых приходятся на июль—август—сентябрь. Выделяются четыре текста, в которых особо поминаются тезоименитые выговским деятелям святые: Даниил, Симеон, Петр, Андрей, Иоанн и др. Текст завершает обращение ко всем российским чудотворцам и «новым последним страстотерпцам и богомудрым и премудрым и предстателем и учителем нашим…». Аналогичное содержание в кондаке и тропаре, посвященных, святым женам. Канон соловецким чудотворцам Корнаева содержит краегранесие, выписанное на полях: «Блажу Зосиму, Саватия же и Германа дивнаго» (читается по первым буквам всех песнопений, за исключением ирмосов и последнего богородична).
Оригинальным памятником выговской гимнографии является «Канон благодарственный вкупе же и молительный о православней вере Господу Исусу Христу», известный по одному списку 1770-х гг.[17] и по гектографическому изданию конца XIX в.[18][19] Список представляет собой копию рукой Ф. П. Бабушкина. Он же приписывает сочинение канона двум поморским авторам — Андрею Борисову и Гавриилу Скачкову. В подробном «Извещении» (л. 224), завершающем текст канона, сообщается: «Канон сей Всемилостивому Спасу сочинен до 7-й песни кир Андреем, а 7-я, 8-я и 9-я песни сочинена кир Гавриилом в четырядесят стоп ямбически, совмещением спондея и пиррихия, а тропарь и богородичен, два седална и кондак со икосом тем же ямбом, но без равномерия, как в песнех стихами сочинены». В «Писаниях…» В. Г. Дружинина это сочинение не упоминается, но в «Каталоге» Павла Любопытного, между прочим, засвидетельствовано наличие целой книги переписки выговского настоятеля Андрея Борисова (1734—1791)” и настоятеля московской Монинской старообрядческой молельни, известного полемиста Г. Л. Скачкова (1745—1821),[20] что косвенно подтверждает возможность их совместной авторской работы.
В каноне благодарственном имеется краегранесие: «Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», и все тропари и междопесния подчинены этому акростиху по первым буквам. Главными темами канона являются изложение и прославление догматов староверия: двуперстие, трисоставной крест Христов, трипогружательное крещение и т. п. Судя по всему, в конце XIX в. издателями канона о вере была предпринята попытка внедрить в богослужебную практику поморских общин догматически важный текст для утверждения выработанных выгорецкими авторитетами вероисповедных основ, подкрепленных именем киновиарха Андрея Денисова. В гектографическом издании канону предшествует панегирическое слово об «авторе».
Наконец, упомянем известный пока по одному списку «Канон за упокой различными образы за отеческия в вере Христове бывшия древле обычаи и законы усердно умерших. Глас 8».[21] В этом выговском заупокойном каноне имеется общее помяновение умерших старообрядцев, о чем свидетельствует и краегранесие, читаемое по начальным буквам тропарей: «Умерших за Тя, Спасе, усердно покой души». В каноне нет вступительного тропаря, а также богородичное и троичнов. В содержании канона особо выделяются темы добровольной жертвы: «Широчайши ада отверзошася уста хулящих отеческия законы, нетерпяще же сего слышати, раби твои, изволиша за них умерети». В рукописи канону предшествуют обычные статьи поморского Синодика с поминаниями выгорецких настоятелей. С текстами общеупотребительных заупокойных канонов данный канон роднят только припев и междопесния, тропари же имеют особые авторские черты выраженной старообрядческой направленности.
Вторую группу выговских литургических текстов составляют шесть служб, посвященных отдельным чтимым деятелям Выгореции. Все эти службы составлены по типу преподобнических служб, средних церковных праздников со всенощным бдением, литией и полиелеем. Тексты их оригинальны, не имеют заимствований ни из общих преподобнических служб, ни из служб тезоименитым святым. Предположительно время их составления устанавливается в период не ранее середины и не позднее конца XVIII в. Рассмотрим их по хронологии персонажей.
1. Служба Корнилию Выговскому (ум. 1695 г.)[22] во всех пяти сохранившихся списках имеет заглавие: «Месяца марта в 30 день. Преставление преподобнаго отца нашего Корнилия Выгопустыннаго».[23] Текст службы завершается особой молитвой[24] преподобному Корнилию. Один из списков этой молитвы, как определил В. Г. Дружинин, принадлежит перу выговца Иванэ Антонова и имеет существенную авторскую правку текста.[25] Этот факт позволяет предполагать Ивана Антонова не только автором молитвы Корнилию Выговскому, но также автором и всего текста службы преподобному Корнилию.
В пользу этого предположения свидетельствует ряд стилистических приемов, характерных для служб, сочиненных Иваном Антоновым и использованных в службе Корнилию. Таковым приемом является анафоричность текстов стихир и канонов. К характерным художественным особенностям творчества Антонова можно отнести внебогослужебные тексты стихов, включенных автором перед каноном.[26] В службе Корнилию имеется стих перед каноном:
Днесь почитаю память честную
Преподобного отца Корнилия,
Молитвами его да свобоаден буду
Вечнаго моления [27]
2. Служба екклесиарху Петру Прокопьеву (ум. 1719 т.)[28] озаглавлена как «Память преподобнаго отца нашего Петра екклесиарха бывша обители Богоявления Господа нашего Исуса Христа, яже на Выгу реце». В выговском Уставе память преподобного Петра совершалась 16 января: «…после веч[ерни] панахида соборная. Поминают отца Петра Прокопьевича на день памяти его. И утром пред часами панахида, поминают единого, а после часов на горку с литиею ходят».[29] Автор этой службы ни в одном из списков[30] не обозначен. В каноне по первым словам текстов читается следующее краегранесие: «Отверзи, Господи, устне воспета твоего раба Петра многоплачевнаго, подвигоносца, истовый целомудрия хранитель беяше сей, его же молитвами Христе Спасе помилуй нас дата, яко Создателю, песнь анельскую». Как и во многих других службах выговцев, здесь используется прием звуковой и лексической анафоры, но лишь в двух группах стихир: на Стиховне на малой вечерне и на Хвалитех.
3. Служба настоятелю и киновиарху Андрею Денисову (ум. 1730 г.)[31] озаглавлена: «Месяца августа 19 день. Память преподобного отца нашего Андрея Выгопустыннаго, учителя премудраго, бывша киновиарха обители Богоявления Господа нашего Исуса Христа, иже на Выгу реце». В выговском Уставе подробно говорится о поминании Андрея Денисова 19 августа: «По отпусте веч[ерни] поют понахиду большую собором в часовне, поминают отца Андрея Дионисьевича для памяти его. Тропарь поют на глас и канон носят. И о после сказывают братии о помяновении настоятеля по своей силе и усердию. А обычай был таков: поклоны кланялись в нощи по 200 поклонов <…> Пред часами в соборе бывает понахида за настоятеля одного, канон на понахиде носят и тропарь конархают. После часов ходят собором во гробницу и поют литию, поминают настоятеля единаго».[32] В имеющихся у нас списках[33] автор не указан. Однако, судя по последовательному использованию анафорического построения текстов служб (стихир и канона), а также включенного в службу стиха:
Колена сердца моего преклоняю
Ко владыце моему создателю,
Пение песненно отцу начинаю
Воспети церковному учителю —
мы можем предположить, что служба эта была написана тем же Иваном Антоновым либо кем-то из его последователей.
4. Служба киновиарху Даниилу Викулину (ум. 1734 г.)[34] имеет название «Месяца декабря 17 день. Память преподобного отца нашего Даниила, создавшего прелестен монастырь на Выгу реце во имя Богоявления Господа нашего Исуса Христа». В выговском Уставе на 17 декабря о поминании киновиарха говорится: «После вечерни по отце Данииле Викуличе понахида соборная. Тропарь на ней поют на глас, а канон носят. На каноне запевают просто. А на статаях и на отпусте поминают киновиархом… Пред часами понахида за настоятеля, на ней тропарь говором. А канон носят… По отпусте часов ходят собором с литаею по настоятели на горку и поют за упокой литию, поминают единого Даниила. За столом на трапезе чтение отцу Даниилу».[35] В имеющихся двух списках[36] автор не указан. В службе перед каноном есть стих:
Припадаю умиление ко всех творцу,
Яко Господу всех и Зиждителю,
Да подаст ми смысл песнь принести отцу
Постьнику и пустынному жителю
Наличие этого стиха, а также изобилие лексических анафор в тексте, сходных с использованными в вышеупомянутых службах, позволяют предположить и в данном случае авторство Ивана Антонова.
5. Служба настоятелю Семену Денисову (ум. 1741 г.)[37] озаглавлена «Месяца мая в 24 день. Память преподобнаго отца нашего Симеона Выгопустыннаго». В выговском Уставе память его отмечается дважды; 25 сентября на день преставления и 24 мая на день ангела. В день преставления «по заутрени за отца Симеона Дионисьевича панахида соборная. Зажигают три свещи больших. Тропари поют и канон носят. А на стадиях и вечной памяти вечер и утро поминают настоятелем, а в каноне запевают просто <…> По отпусте часов ходят братия собором на горку и поют в часовне литию, а поминают единаго Симеона.[38] В день тезоименитства 24 мая «по отпущении веч[ерни] поют понахиду большую собором за настоятеля Симеона Дионисьевича, к понахиде зовут по кельям, свечи зажигают местные все и в малом паникадиле 6 свеч. На панахиде тропарь поют на глас и канон носят. На ект[енье] поминают настоятеля, а в каноне запевают просто. Павеч[ерицей?] братии сказывают о поминовении <…> По отпусте часов ходят собором на горку и поют по настоятели литию, поминают одного Симеона. За столом преже читали житие Симеона Дионисьевича».[39] В списках службы[40] указано: «В каноне зри в тропарех перваго речения от первыя и до 9-я песни кроме ирмосов, кондака и икоса, и обрящеши краегранесие», которое читается так: «Благословением благоподвижнаго Выговския обители Богоявления Спаса боголюбива инока Ионы написася рукою многогрешнаго мужа Иоанна, воспоминание, иже похвалу пречестнаго отца исповедника Симеона, его же молитвами». В. Г. Дружинин полагал, что под именем «Иоанна» в краегранесии подразумевается Иван Филиппов (ум. 1745), историк Выга,[41] нам же представляется более вероятной атрибуция данной службы все тому же выговскому литургисту Иоанну Антонову, использовавшему и в данном тексте излюбленный прием звуковой анафоры.
6. Служба Геннадию Боровскому (дата кончины неизвестна)[42] имеет развернутый заголовок: «Сказание о трудех и страдании в постнических подвигах священнаго отца Генадия инока бывша честныя и многословутыя киновии преподобных отец Зосимы и Саватия Соловецких чюдотворцев во время же гонительное на святую веру Христову и святоотеческое древнее благочестие многотерпеливно за исповедание истиннаго православия темницы и узы приимшаго послежде благоволением Божиим постническим житием в выговской пустыни близ речки Немены яже на Бору Тихвинском у Спаса в хранении истинныя православныя христианския веры о Господе святоскончавшася». В выговском Уставе память Геннадию не отмечена. Ни стиха, ни краегранесия в службе не имеется. Однако Ф. П. Бабушкин приписал авторство ее Ивану Антонову,[43] что подтверждается приемом анафоры в стихах.
К сожалению, никаких достоверных источников о выговце Иване Антонове нам обнаружить пока не удалось. Для уверенной атрибуции ему целого комплекса выговских служб необходим тщательный текстологический и стилистический анализ. То же необходимо провести и для служб, приписываемых Семену Денисову и Григорию Корнаеву. Тем не менее отмеченные нами приемы лексической и звуковой анафоры в текстах, использование разных форм краегранесия, включения внебогослужебных четверостиший перед канонами служб, типовые заголовки текстов дают представление о характерных приемах и структурных закономерностях литургического творчества выговских авторов, принадлежавших к единой литературной школе.
[1] Бывшего беспоповца Григория Яковлева Извещение праведное о расколе беспоповщины. М., 1888. С. 111 (далее: Извещение праведное); Островский Д. Выговская пустынь и ее значение в истории старообрядческого раскола. Петрозаводск, 1914. С. 56.
[2] Часть текстов так или иначе отмечена В. Г. Дружининым в «Писаниях русских старообрядцев» (СПб., 1912).
[3] Дружинин В Г Писания С 435, № 719
[4] РГИА, ф 834, оп 1, № 841 л 1 Другие списки ИРЛИ, Древлехранилище, Новгородско-Псковское собр , № 9, л 253, XVIII в (80-е гг), БАН, 33 13 16, XIX в (вторая четв), собр Дружинина, № 827, л 29, XIX в (30-е гг), № 63, л 54 об , XIX в (поел четв), собр Строганова, № 45, л 83, XIX в (ЗО-е гг)
[5] Этот же прием обратного чтения краегранесия применен выговцами в заключительных строках текста «Поморских ответов»
[6] Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в рукописное отделение Библиотеки Императорской Академии наук в 1904 г СПб , 1907 С 322—326 (по рукописи БАН, 33 13 16)
[7] ИРЛИ, Новгородско-Псковское собр , № 9, л 288, РГИА, ф 834, оп 1 № 841 л 255
[8] Среди сочинений Семена Денисова Григорий Яковлев указывает «Стих надгробный брату своему Андрею на два роспева, ему же начало Приидите, восплачем вси Сочинен весь в подражании точном по метру стихотворному стихир Великия Субботы, еже Приидите, ублажим» (Извещение праведное С 108)
[9] Дружинин В Г Писания С 435, № 718
[10] БАН, собр Дружинина, № 65, л 56, XVIII в (конец)
[11] РГИА, ф 834, оп 1, N° 841, л 24, XVIII в (конец), БАН, собр Дружинина, № 328, л 43, XIX в (перв четв), № 827, л 45 об , XIX в (30-е гг), № 63, л 75, XIX в (конец), № 64, л 89, XIX в (конец), собр Строганова, № 45, л 105, XIX в (30-е гг)
[12] В 1748 г Григорий Яковлев извещал «Что видел он < > службу новосочиненную (неизвестно кем) раскольническим мнимым новым страдальцам и самосоженцом, по именам их, стихиры и паремии и прочее со славниками (о каноне же не упомню)» (Извещение праведное С 111)
[13] Дружинин В Г Писания С 434, № 716
[14] РГИА, ф 834, оп 1, № 841, л 178, XVIII в (поел четв)
[15] В пометах Дружинина на поле л 14 об рукописи БАН, собр Дружинина, № 63, XIX в (конец) читаем «Канон сочинен Г И Романовским в Москве в 1795-м г, наверн[ое] на Преображенском кладбище» В остальных списках—БАН, собр Дружинина, № 827, л 1 об , XIX в (30-е гг), собр Мордвинова, № 46, 1884 г, собр Строганова, № 45, л 1, XIX в (30-е гг ) — автор не указан
[16] Исторический словарь и каталог или Библиотека староверческой церкви Соч П О Любопытнаго Изд Н И Попова М , 1866 С 88 № 227—229
[17] РГИА, ф 834, оп 1, л 221
[18] ИРЛИ, Древлехранилище, колл Заволоко, № 319, л 226, БАН, собр Чуванова, № 53 собр Дружинина, № 1062 В гектографах канон ошибочно приписан издателями Андрею Денисову
[19] Исторический словарь С 54, № 132 «Пространная книга переписок с московским пастырем Гавриилом Ларионовым Скочковым, состоящая из богословских и философских состязаний, вопросов-ответов, касательно всей церкви и мира»
[20] Там же среди сочинений Г Л Скачкова упомянуты каноны Господу Богу (С 93 № 249) О Г Скачкове см Старообрядческий церковный календарь на 1971 год Рига, 1971 С 74-75
[21] БАН, собр Дружинина, № 65, л 90, XVIII в (конец) У В Г Дружинина в «Писали ях » не отмечен
[22] Дружинин В Г Писания С 181, № 1
[23] РГИА, ф 834, оп 1, № 841, л 67, XVIII в (конец), БАН, собр Дружинина, № 827, л 15, XIX в (30-е гг), № 63, л 30, XIX в (конец), № 64, л 119, XIX в (конец), собр Строганова № 45, л 54 об , XIX в (30-е гг)
[24] Дружинин В Г Писания С 181, № 2
[25] БАН, собр Дружинина, архив, лист с пометами В Г Дружинина, бумага с «белой» датой 1788 г
[26] Ср со стихами перед каноном в службе новым страдальцам Ивана Антонова
[27] Стих читается только в одном списке конца XVIII в РГИА, ф 834, оп 1, № 841 л 78 об
[28] Дружинин В Г Писания С 240, № 17
[29] Устав Круг вселетнаго богослужения поморскаго Выгорецкаго монастыря Саратов 1913 Л 95 об
[30] РГИА ф 834 оп 1, № 841, л 128, XVIII в (конец), БАН, собр Дружинина № 322 XVIII в (конец) № 64 л 50 об XIX в (конец)
[31] Дружинин В Г Писания С 132, № 206
[32] Устав Круг вселетнаго богослужения Л 179, 179 об Память Андрея Денисова указывалась и в некоторых рукописных поморских святцах Например, в месяцеслове из БАН, собр Дружинина, № 131, л 264 об , приписка на полях сделана рукой Ф П Бабушкина в 20-х гт XIX в
[33] РГИА, ф 834, оп 1, № 841, л 109, XVIII в (конец), БАН, собр Дружинина, № 64 л 26, XIX в (конец)
[34] Дружинин В I Писания С 76, № 11
[35] Устав Круг вселетнаго богослужения Л 74 об , 75
[36] РГИА ф 834 оп 1, № 841 л 90, XVIII в (конец) БАН собр Дружинина № 64 л 4 XIX в (конец)
[37] Дружинин В Г Писания С 161, № 89
[38] Устав Круг вселетнаго богослужения Л 40, 40 об
[39] Там же Л 136, 136 об.
[40] РГАДА ф 834, оп 1, № 841, л 139, XVIII в (конец) В этом списке ошибочно указана память 24 июня и 1736 I как год преставления Семена Денисова БАН, собр Дружинина, № 64, л 65
[41] БАН собр Дружинина, № 64, л 1, 74
[42] Дружинин В Г Писания С 81, № 2, с 82, № 3 Упомянутые автором две службы на самом деле являются одним текстом
[43] РГИА, ф. 834, оп. 1, № 841, л. 1, Оглавление. Текст службы см.: Там же, л. 48, ХУШ в. (конец); БАН, собр. Дружинина, № 328, л. 64, XIX в. (перв. четв.); № 827, л. 8, XIX в. (30-е гг.) (список дефектный); собр. Строганова, № 45, л. 36, XIX в. (30-е гг.).
Г. В. Маркелов, Ф. В. Панченко. О гимнографическом творчестве на Выгу
В ряде исторических свидетельств и работ исследователей истории и культуры Выговского старообрядческого общежительства отмечается факт существования на Выгу традиции церковного почитания собственных святых угодников — приверженцев старой веры.[1] Этот факт находит подтверждение и в текстах специально составленных служб, сохранившихся в небольшом числе списков.
К исходу XVIII столетия Выголексинское общежительство явилось уже полностью сфомировавшимся, идеологически и социально обустроенным религиозным и хозяйственным центром беспоповцев поморского согласия. Помимо сельскохозяйственной и торгово-промышленной деятельности в обоих мужском Выговском и женском Лексинском монастырях процветали такие виды церковного искусства, как иконопись, храмовое зодчество, производство литых бронзовых икон, резьба по дереву крестов и надмогильных памятников, книгописное дело, знаменное пение и литературное творчество.
«В основе внутренней жизни обитателей Выговской пустыни лежали аскетические требования послушания, целомудрия, нестяжательности… Богомолие, пост, девственное житие, трудоделание»[2] являлись неукоснительными правилами выголексинцев. В этих условиях возник особый строй богослужебной практики, самобытность которого определялась тем, что службы и требы исполнялись фактически мирянами. Церковная община поморцев управлялась не рукоположенными пресвитерами, а избранными «миром» наставниками. На протяжении первых десятилетий выговскими большаками были составлены уставные документы, регламентирующие почти все стороны жизнедеятельности общежительства, включая и богослужебную практику. По-видимому позднее, на рубеже XVIII—XIX вв. сложился и богослужебный Устав.[3] Этот Устав представляет собой оригинальное выговское сочинение, в котором отражена сложившаяся в общежительстве практика беспоповского богослужения. Годовой цикл велся по старым дониконовским книгам. Но известно, что поморцы составляли и особые чинопоследования, например, чин исповеди, крещения, покаяния, Вселенскую панихиду и другие,[4] приспосабливая традиционные тексты к особенностям своей жизни.
С одной стороны, выговцы ощущали себя единственными верными «остальцами древнего благочестия», отраслью истинной православной церкви, с другой стороны, отсутствие священства не могло не вызывать чувства неполноценности, ущербности, дисгармонии. Ни многочисленные трактаты, оправдывающие эту вынужденную драматическую ситуацию, ни, например, попытки обрести законных пастырей в самой Палестине, куда был направлен выговец Михаил Вышатин, не устранили опасного чувства неудовлетворенности.
В этих обстоятельствах выговцы обращаются к опыту поместных церквей и предпринимают беспрецедентную попытку создания пантеона собственных святых. Не сразу, исподволь в Выгореции складываются целые этиологические циклы, включающие житийные повествования с чудесами, похвальные слова, слова по поводу кончины, памяти, плачи, духовные стихи, особые молитвы и, наконец, церковные службы и каноны. Венчает всю эту картину возникновение иконографической традиции, когда на иконах изображаются фигуры и лики с нимбами и надписаниями «преподобный такой-то».
Над могилами выговских основателей были воздвигнуты раки, крытые черным сукном, останки их почитались как нетленные мощи, а на места самосожжений и гарей отправлялись нарочные собирать сгоревший прах. Выговцы возвели в сонм святых не только своих предшественников XVII в. — протопопа Аввакума, Павла Коломенского, Игнатия Палеостровского, Феодосию Морозову, Евдокию Урусову и многих других, но и удостоили этой чести своих первых настоятелей — Даниила Викулина, Андрея и Семена Денисовых, Петра Прокопьева и др. И если первые прославлялись как мученики, исповедники и страдальцы, то вторым святость придавал их ореол учительства и церковного строительства. Надо полагать, что в прославлении своих святых выговцы видели и исполнение других важных задач: упрочение собственного авторитета и просветительство, укрепление веры преподанием примеров подвижничества из своей среды.
Таковы были условия, в которых на Выгу стали естественным образом сочинять собственные церковные службы.
Обратимся непосредственно к текстам известных выговских служб. Мы располагаем списками служб шести деятелям Выгореции: Корнилию Выговскому, Даниилу Викулину, Геннадию Боровскому, Петру Прокопьеву, Андрею Денисову и Семену Денисову. Еще три службы являются общими. Из них в двух прославляются новые российские исповедники и в одной — «учителя пресловущие».
Списки девяти служб известны по 11 рукописям, находящимся в хранилищах Санкт-Петербурга.[5] Тексты выговских служб в рукописях дошли до нас в виде отдельных тетрадей, в составе богослужебных сборников (как правило, конволютов) и в специальных сборниках служб поморским святым. Авторство ряда служб устанавливается благодаря особым примечаниям, сделанным известным поморским деятелем конца XVIII—начала XIX в. Федором Петровичем Бабушкиным в специальном оглавлении сборника, некогда ему принадлежавшего.[6] Из этих примечаний выясняется, что авторами четырех служб являются Семен Денисов, Григорий Карнаев (Романовский) и Иван Антонов.[7]
Все упомянутые службы написаны согласно православной уставной традиции и относятся к типу средних церковных праздников с литией и полиелеем, а большинство — и со всенощным бдением. В индивидуальных службах выгорецкие отцы обозначены как преподобные, однако генетической связи их служб с общей преподобнической службой не усматривается. То же можно сказать и о службах страдальцам и учителям, составленных без ориентации на службы подобных чинов из Минеи общей.
Большинству текстов песнопений свойственны витиеватое многословие, сложность риторических конструкций, являющиеся характерными признаками выговских литературных сочинений. Как показали проведенные нами исследования текстов, в службах наблюдается ряд специфических художественно-поэтических приемов. Одни приемы хорошо известны, они широко применялись в славянской гимнографической традиции, другие являются сугубо специфическими и отражают стилистику нового времени.
Распространенным является прием, когда тексты тропарей канонов подчиняются предпосланному краегранесию. Встречаются различные способы его прочтения: либо по первым буквам, либо по первым словам, читаемые как в прямом, так и в обратном порядке.[8]
Нетрадиционным приемом является помещение особых четверостиший перед канонами.[9] Например, в службе Даниилу Викулину читается стих:
Припадаю умиление ко всех Творцу:
Яко Господу всех и Зиждителю,
Да подаст ми смысл песнь принести отцу
Постьнику и пустынному жителю.
Широко применялся в текстах выговских служб третий прием — прием лексической и звуковой анафоры, организующей песнопения внутри групп. Часто встречаются устойчивые повторы первых слов в группах стихир, написанных на подобен. Например, три стихиры на «Господи, воззвах» на малой вечерне 4-го гласа на подобен «Дал еси знамение» из службы Андрею Денисову:
— Дал еси крепость…
— Дал еси хваление…
— Дал еси Господи…;
или четыре стихиры на стиховне 2-го гласа на подобен «Доме Евфратов» из службы Корнилию Выговскому:
— Дом и жилище Святаго Духа…
— Дом добродетелей сыи весь…
— Дом в пустыни на Выгу реце…
— Дом Божия церкве святые служитель на земли…
Этот прием наравне с акростихом хорошо известен в славянской литургической поэзии.
Единоначалие можно наблюдать в группах стихир, имеющих обозначение подобна, но не следующих в текстах за его первыми словами. Например: в службе Семену Денисову на великой вечерне на стиховне все три стихиры 1-го гласа на подобен «Прехвальнии мученицы» начинаются обращением «Преподобие отче Симеоне…»; или в службе Петру Прокопьеву стихиры малой вечерни на стиховне 2-го гласа на подобен «Доме Евфратов» начинаются одним и тем же словом «иже»:
— Иже от перваго до единонадесятого часа…
— Иже в юности мира…
— Иже Христа Бога…
Анафоричность встречается и в текстах стихир, не имеющих обозначения подобна.
Звуковая анафора используется наиболее последовательно в канонах служб Геннадию Боровскому, Корнилию Выговскому, Даниилу Викулину. Здесь все тропари канонов подчинены ирмосам. Например, в 7-й песни канона из службы Геннадию Боровскому читаются — ирмос:
Купина в горе…
тропари:
Купно жительствующий с тобою в киновии мниси…
Куплю деющии мужие, случающеся в киновии…
Ко украшению пустыни нашея…
Приведенные примеры характерны для текстов всех выговских служб, в которых они последовательно применяются.
Говоря о службах выговцев в целом, следует отметить, что они представляют собой хорошо продуманные, цельные художественные композиции. Это свидетельствует о свободном владении выговскими авторами столь сложной формой, каковой является церковная праздничная служба. Выговцы следовали жесткому канону жанра и, не нарушая гимнографической традиции, создали целый корпус оригинальных сочинений, в которых отчетливо проявилась стилистика особой выговской литературной школы.
Предположительно первой из созданных выговцами служб была «Служба святым исповедником новым росийским страдальцем, пострадавшим от новолюбителей за древлевосточное церковное апостольское и отеческое благочестивое предание» (далее — «Служба исповедникам новым»). Она известна в шести списках и является единственной из обозначенных нами служб, часть песнопений которой была распета на крюках.[10] Авторство этой службы приписывается Семену Денисову — одному из основателей Выгореции. Его самого одним из первых выговцы возвели впоследствии в ранг святых, и ему также была создана отдельная служба. ‘Семен Денисов известен как автор множества сочинений, среди которых выделяются: «Виноград российский», представляющий собой пространное агиографическое сочинение именно о страдальцах и исповедниках; «Слово воспоминательное о святых чудотворцах в России воссиявших, яко о святости жития, тако и о преславных чудесах их».[11] Сочинение этих текстов косвенно подтверждает возможность того, что их автор мог сочинить и литургический текст, посвященный прославлению уже описанных им деятелей. Время создания службы — до 1741 г. определяется датой кончины Семена Денисова.
Известно, что Семен Денисов был и знатоком знаменного пения. По свидетельству выговца Григория Яковлева, Семен Денисов вносил свои исправления в богослужебные йотированные книги[12] и даже писал гимнографические сочинения с разными роспевами.[13] Эти знания позволяют предположить, что автором роспевов стихир указанной службы также мог быть Семен Денисов.
Состав и структура «Службы исповедникам новым» соответствует типу средних церковных праздников с литией и полиелеем. Характерно, что составитель службы воспользовался текстами чтений Священного Писания и стихами перед стиховными стихирами, установленными для службы не исповедникам, а мученикам. Кроме того, в выговской службе, так же как в общей службе мученикам, для хвалитных стихир избран подобен 8-го гласа «О преславное чудо». Иных структурных и текстовых корреспонденций с соответствующими службами из Минеи общей не усматривается.
За исключением славников, стихир на литии и стихиры по 50-м псалме, стихиры службы имеют указания на подобны.[14] Таковыми являются три стихиры на «Господи, воззвах» на великой вечерне 4-го гласа — подобен «Званный свыше», три «ины» стихиры на «Господи, воззвах» 6-го гласа — подобен «Все возложите», три стихиры на стиховне 5-го гласа — подобен «Радуйся» и три стихиры на «Хвалите» 8-го гласа — подобен «О преславное чудо». Отметим, что анафорическими повторами связаны тексты первых трех стихир на «Господи, воззвах», при этом начальные слова стихир не повторяют начальных слов подобна. Анафорические начала стихир групп на стиховне и на «Хвалите» определяются первыми словами подобное.
Перед каноном 6-го гласа помещено краегранесие «Защитники отеческих законов почитаю», которое читается в обратном порядке от конца к началу канона по первым буквам тропарей и богородичнов. Ирмосы для этого канона автор почерпнул из великопостного цикла ирмосов, в том числе исполняемых в Страстной четверг, что придало канону особо скорбный характер.[15]
Содержанием «Службы исповедникам новым» является прославление приверженцев отеческой веры, претерпевших страдания и пытки, принявших мучительную смерть от «новолюбцев-никониан».[16] Службе в целом и стихирам в особенности свойствен нарративный характер изложения. И хотя здесь нет исторических имен, конкретных реалий, тексты песнопений насыщены подробностями, описывающими сущность церковного раскола, описания мучений исповедников сплетаются с изложением важнейших элементов старообрядческой догматики: «Егда новостей леды ознобиша росийския церкве сердце, тогда ярое суровство новоиюбителей вооружися на избранное Христово стадо, и бяху полны темницы, …но и во мрачных узилищах просвещахуся сердца страждущих…»,[17] «…и всяк град и место обагряшеся кровьми исповедников… яко не агарянские внуци, но сроднии людие искореневаху древнее святых предание…»,[18] «…российская церкви… православием, яко порфирою царскою, одеяна ликоваше, ныне же… от всея тоя лепоты обнажена узреся ибо двоперстное сложение, исповедующее Христа во двою естеству во единой же ипостаси, увы, дерзостно арменским наречеся, и крест Христов трисоставныи… отъяся, и брынским бесчесно назвася… три перстное [сложение] утвердися… уставы поколебашася…».[19]
Тема, которой посвящена «Служба исповедникам новым», явилась новой для русской гимнографии. Поэтому, вероятно, автор-составитель этой службы не мог ориентироваться на какой-либо один конкретный образец, и большинство песнопений службы составлено им самостоятельно. Однако трагическое противостояние христиан и связанный с ним подвиг страстотерпчества не раз служили поводом к прославлению праведников в русской церковной традиции.[20] Это и обусловило тот факт, что в образном строе, в подборе отдельных словесных выражений, в самих стихирных формах и, наконец, в композиционной логике всей службы отчетливо проступает генетическая связь именно с русской гимнографической традицией и в первую очередь со службами, посвященными событиями русской истории.
Рассмотрим некоторые особенности «Службы исповедникам новым», корреспондирующиеся с хорошо известными в литургической практике древними службами.
Так, например, тексты стихир 4-го гласа на «Господи, воззвах» имеют весьма характерную синтаксическую конструкцию. Первая часть этой конструкции представляет собой сложноподчиненное предложение, начинающееся с придаточного с использованием подчинительных союзов «егда… тогда». Такого рода конструкции обеспечивают динамическое нарастание смысловой «нагруженности» текста, в котором союзу «егда» принадлежит роль импульса:
я стихира — «Егда буря новостей поколеба всю Росию, тогда держими житейских страстей узами…»;
я стихира — «Егда новостей леды ознобиша росийския церкве сердце, тогда ярое суровство новолюбителей…»;
я стихира — «Егда новолюбцы начаша утверждать новости в России, тогда грозная их ярость…».
Естественным образом в этих стихирах по начальным словам усматривается связь с подобном 2-го гласа «Егда от древа», явившемся архетипом для многих праздничных стихир, в том числе и русским праздникам.[21] Однако более внимательное рассмотрение текстов позволяет утверждать, что выговский автор опирался не на первоначальный образец, а скорее на древние стихиры русским праздникам, такие как славник 4-го гласа из службы Владимирской иконе Богоматери «Егда изыде Богородице дево…», стихира по 50-м псалме 6-го гласа того же праздника «Егда пришествие пречистаго ти образа…», стихира того же праздника «Егда прииде Богородице образ твои ко граду Москве…»,[22] стихира на «Господи, воззвах» 8-го гласа службы Знамению иконы Богородицы в Новгороде «Внегда убо мужие великого Новаграда…» и стихира из службы Меркурию Смоленскому «Егда злии агаряне отсекоша главу святому Меркурию…».[23]
В текстах стихир «Службы исповедникам новым» нет характерного стилистического приема средневековой литературы: проведения исторических параллелей с библейскими событиями. Зато в новой службе трагическому образу страдальцев за старую веру противостоит образ христиан-«новолюбителей», которые сопоставляются с «нечестивыми агарянами». Агаряне в данном контексте выступают как некая обобщенная безжалостная бездуховная и агрессивная сила. В связи с упоминанием агарян возникает ассоциация с русскими службами, в которых отразилась тема борьбы с татаро-монгольским игом. Например:
«…яко не агарянские внуцы, но сроднив люди искореневаху древнее святых предание» (3-я стихира на «Господи, воззвах» «Службы исповедникам новым»);
«…злого врага царя Батыя низложи и агарянския внуцы победи…» (славник на «Господи, воззвах» б-го гласа службы Меркурию Смоленскому);
«…зловернаго царя Батыя ужасиво и самохвальнаго исполина победиво, и вси вноуци агаряньския поженуво…» (стихира Меркурию Смоленскому);[24]
«…тогда же зловредный Темир Аксак со всеми своими безбожными агаряны…» (славник на литии 4-го гласа службы Сретения Владимирской иконы Богоматери).[25]
Связь с древнерусскими праздничными стихирами обнаруживают и самогласные стихиры. Некоторые из них проявляются лишь на уровне инципита, например:
«Что шум празднующих умножается..» — славник 7-го гласа на стиховне
«Службы исповедникам новым» и славник 2-го гласа службы Минодоры, Митродоры и Нимфодоры с тем же инципитом.
Иные выговские стихиры-самогласны текстуально восходят к известным образцам, например:
«Днесь радуется верных множество…» — славник на «Хвалите» 6-го гласа
«Службы исповедникам новым» и славник на «Господи, воззвах» 6-го гласа службы Тихвинской иконе Богоматери.[26]
Еще пример:
«Апостольских предании известные хранители…» — славник на литии 3-го гласа выговской службы и аналогичные тексты в службах: 16 июля,
Память святых отцов шести соборов (славник на литии 3-го гласа), 30 января,
Память трех святителей вселенских (славник на стиховне 3-го гласа), 11 октября,
Память святых отец 7-го собора (славник на литии 3-го гласа).
Последний пример, пожалуй, единственный, когда тема песнопения из преждебывшей службы оказалась столь созвучной идее новой службы. Это становится очевидным уже по первым словам. Как известно, старообрядцы считали именно себя истовыми хранителями священных законов, идущих от апостольских времен.
Подобная органическая связь с русской средневековой гимнографией не случайна. Известно, что на Выгу существовала устойчивая традиция церковного почитания русских святых. Свидетельство тому — многочисленные списки житий и служб русским святым и праздникам, сделанные выговцами. Из 181 праздничного цикла, содержащегося в типовом поморском йотированном Стихираре, 73 посвящены памятям русских святых и праздников. В основном русские богослужебные циклы в Стихирарях представлены стихирами-славниками с дополнением стихир по 50-м псалме. Этот краткий тип состава песнопений служб был достаточно распространен в певческих рукописях XVI—XVII вв. В поморской старообрядческой рукописно-книжной традиции он стал преобладающим, и лишь избранные службы в Стихирарях помещались со всеми стихирами. По-видимому, установившаяся на Выгу подобная практика обусловила и состав йотированных песнопений службы новым исповедникам, фиксировавшихся в рукописях. Кроме стихир-славников и стихиры по 50-м псалме в известных нам списках службы имеется первая самогласная стихира на литии и величание. Таким образом, мы располагаем семью йотированными песнопениями, из которых шесть — стихиры и одно — величание.[27]
Приведем инципиты этих песнопений:
Славник на «Господи, воззвах» 8-го гласа — «Что вам принесем, доблии страдальцы…»,
1-я стихира на литии 1-го гласа — «Страдальческое торжество наста днесь…»,
Славник на литии 3-го гласа — «Апостолескихо предании известнии хранители»,
Славник на стиховне 7-го гласа — «Что шум празднующих умножается…»,
Стихира по 50-м псалме 5-го гласа — «Приидите отцелюбное собрание…»,
Славник на «Хвалите» 6-го гласа—«Днесь радуется верных множество…»,
Величание — «Величаем вас, святии новые страстотерпцы…».
Стихиры распеты в стиле знаменного роспева, а величание — знаменного и путевого.[28][29] Запись всех песнопений произведена в знаменной беспризначной пометной нотации. Тексты котированных стихир преимущественно истинноречные, с отдельными вкраплениями элементов раздельноречия. Подобное «удревление» текстов, видимо, было свойственно выговским распевщикам.
Все йотированные стихиры написаны в разных гласах: 8, 1, 3, 7, 5 и 6. Службе в целом также свойственно гласовое разнообразие: в различных песнопениях представлены все восемь гласов. Причем смена гласов происходит не только со сменой группы стихир, но и внутри микроциклов. Так, в разных гласах — 1, 2, 4 и 3 — написаны все стихиры на литии.[30] Роспевы самогласных стихир имеют четкий гласовый ориентир, выраженный в использовании характерных для каждого из гласов интонационных формул и их функционировании в напеве. Структура музыкальных текстов вполне согласуется с традиционной трехчастной формой гимнографического текста. Музыкальное развертывание в стихирах происходит за счет вовлечения новых формул, постепенно интонационно усложняющих и расширяющих объем звучания роспева, что является основным принципом формообразования в знаменном роспеве. Преобладающий тип изложения — силлабомелизм этический. Примерно в третьей четверти формы песнопений помещаются фиты (от одной до трех),[31] обозначая тем самым кульминационные зоны звучания песнопений. В целом можно утверждать, что роспевы стихир, созданные выговцами в XVIII в., во всех основных принципах следуют средневековой музыкальной традиции.
Подводя итоги сказанного, необходимо заметить, что выговские литургисты смогли только начать свое большое дело, которое, судя по всему, не возымело дальнейшего воплощения. Больше того, оно не успело вкорениться в практику общественного богослужения поморских общин, оставаясь, вероятно, уделом частного, келейного молитвословия. Об этом свидетельствует отсутствие указаний на отправление нарочитых выговских служб в поморских святцах и уставах. Эти службы не включались и в традиционные богослужебные книги: Минеи, Стихирари и Обихода. Неукорененность выговских служб подтверждается и чрезвычайно малым количеством списков, сохранившихся в государственных архивохранилищах и в библиотеках поморских общин. По сведениям, имеющимся в выговском уставе, известно лишь, что в дни памятей выгорецких отцов им служили панихиды и пели литию над могилами.
Современные поморцы с большой осторожностью относятся к выговской гимнографии, полагая составление отдельных служб новым святым делом неканоничным. Прославление памяти страдальцев и мучеников первоначальной эпохи русского раскола ведется исключительно по синодикам в общеправославные поминальные дни.
Было ли литургическое творчество характерным для русского старообрядчества, или выговские службы явились уникальным опытом в многообразном творчестве староверов — на этот вопрос еще предстоит ответить.[32]
[*] Исследование поморской певческой традиции осуществляется Ф. В. Панченко при поддержке фонда Сороса (К.88/НЕ8Р N0.: 684/1995).
[1] Бывшаго безпоповца Григория Яковлева Извещение праведное о расколе беспоповщины. М., 1888. С. 111; Барсов Е. В. Семен Денисов Вторушин, предводитель русского раскола XVIII в. Статья 2//Труды Киевской Духовной академии. 1866. Т. 2, № 6 (июль). С. 175, 179; Островский Д. Выговская пустынь и ее значение в истории старообрядческого раскола. Петрозаводск, 1914. С. 56.
[2] Островский Д. Выговская пустынь… С. 53.
[3] Устав. Круг вселетнаго богослужения поморского Выгорецкого монастыря. Саратов, 1913.
[4] См.: Исторический словарь и каталог или библиотека староверческой церкви/Сост. П. О. Любопытного. Изд. Н. Н. Попова. М., 1866; Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. СПб., 1912.
[5] БАН, собр. Дружинина, № 322 (XVIII в., 90-е гг.), № 328 (XIX в., 1-я четв.), № 65 (XVIII в., 90-е гг.), № 64 (конец XIX в.), № 63 (конец XIX в.), № 827 (XIX в., 30-е гг.), Основное собр., 33.13.16 (1820-е гг.), собр. Мордвинова, № 46 (1884 г.), собр. Строганова, № 43 (XIX в., 30-е гг.); ИРЛИ, Древлехранилище, Новгородско-Псковское собр., № 9 (1780-е гг.); РГИА, ф. 834, оп. 1, ед. хр. 841 (XVIII в., середина—XIX в., начало). Распределение списков служб по рукописям отражено в нашей статье «О литургическом творчестве выговцев» (ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 50. С. 220—228).
[6] РГИА, ф. 834, оп. 1, ед. хр. 841.
[7] Пользуясь примечаниями Ф. П. Бабушкина, первую предварительную атрибуцию сделал В. Г. Дружинин.
[8] См. службы: «Святым исповедником новым росийским страдальцем», «Блаженным и приснопамятным отцем нашим премудрым последняго христианска рода учителем пресловущим». Петру Прокопьеву, Семену Денисову.
[9] См. другие службы: «Кратковоспоминателнаго похваления стихословие, сочиненное в подобие службы святым новым российским страдальцем», Корнилию Выговскому, Андрею Денисову, Даниилу Викулину.
[10] Нам известно два йотированных списка: ИРЛИ, Древлехранилище, Новгородско-Псковское собр., № 9, л. 288—298; РГИА, ф. 834, оп. 1, ед. хр. 841, л. 225.
[11] Дружинин В. Г. Писания… С. 133, 148. Отметим, что «Слово воспоминательное о святых чудотворцах в России воссиявших» Семена Денисова печаталось в XVIII в. в старообрядческих изданиях вместе со «Службой всем святым российским чудотворцам» (см.: Вознесенский А. В. Старообрядческие издания XVIII—начала XIX века. Введение в изучение. СПб., 1996. С. 119—121). Сама «Служба всем святым российским чудотворцам», составленная в XVI в. иноком Григорием Суздальским, была хорошо известна выговцам, о чем свидетельствуют сохранившиеся списки этой службы, выполненные характерными выговскими почерками (см., например, список 1740 г. в рукописном сборнике БАН, Каргопольское собр., № 118, л. 447—478). Кроме того, эта служба была введена и в богослужебную практику поморцев. Так, в поморских месяцесловах отмечен день памяти всех российских чудотворцев — 17 июля (см. рукописи БАН: собр. Дружинина, № 736, л. 68; Каргопольское собр., № 118, л. 216), а в Стихирарях помещены йотированные стихиры этой службы (см. рукописи БАН: собр. Чуванова, № 195, л. 276; № 25, л. 217 об.).
Несомненно, «Служба всем святым российским чудотворцам» оказала влияние на автора другой выговской службы — «Кратковоспоминателнаго по хваления стихословие, сочиненное в подобие службы святым российским страдальцем» (она же «Служба общая святым новым российским страдальцем»). Предполагаемый автор Иван Антонов построил эту службу подобно службе инока Григория, посвятив каждую стихиру конкретному историческому персонажу (см. об этой службе нашу статью: О литургическом творчестве выговцев. С. 222— 223)
[12] Бывшаго безпоповца Григория Яковлева Извещение… С. 109.
[13] Там же. С. 108.
[14] Все использованные в службах подобны зафиксированы в подборках подобное в поморских котированных Обиходах.
[15] Подбор ирмосов в выговской службе сближает ее со службой Знамению иконы Богородицы в Новгороде Пахомия Серба, ирмосы канона которой также ориентированы на великопостный цикл, а ирмосы 4-й, 5-й и 9-й песни в этих службах общие. Включение в праздничные службы ирмосов, восходящих к канонам Страстной седмицы, — случай не единичный, хотя и не распространенный в русской гимнографии. Ф. Г. Спасский отмечает подобное явление кроме как в службе Знамению иконы Богородицы в Новгороде еще в службах муч. Иоанну Новому и св. Арсению. Он объясняет этот прием «сербской манерой» составления канонов (см.: Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество: (по современным Минеям). Париж, 1951. С. 29, 42, 107).
[16] Страстотерпцами по христианской традиции называются мученики, в особенности те, «которые претерпели страдания во имя Господа по коварству и клевете ближних своих — единоверцев» (см.: Полный церковнославянский словарь (со внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений) / Сост. Гр. Дьяченко. М., 1899. С. 671). «Исповедник — открыто свидетельствующий веру, в святцах название исповедников… усвоено тем святым мужам и женам, которые претерпели за Христа великие и тяжкие мучения от лжеучителей и гонителей церкви Христовой, хотя и не приняли мученического венца» (Там же. С. 228).
[17] 2-я стихира на «Господи, воззвах».
[18] 3-я стихира на «Господи, воззвах».
[19] 2-я стихира на литии.
[20] См. службы Знамению иконы Богородицы в Новгороде, Борису и Глебу, Димитрию Углическому и др.
[21] В этом ряду следует отметить группу стихир на «Господи, воззвах» на этот подобен, входящую в службы Зосиме и Савватию Соловецким на 27 сентября и 8 августа, а также группы стихир на стиховне на подобен 5-го гласа «Радуйся» в службах Зосиме Соловецкому (17 апреля) и Александру Свирскому (3 августа), так как в выговской службе для стихир на стиховне избран тот же подобен. Эти наблюдения подтверждают мнение об особом почитании на Выгу севернорусских святых, и в первую очередь соловецких преподобных, преемниками которых считали себя насельники Выга. Таким образом, выбор подобнов для определения групп стихир в этих службах совпал не случайно.
[22] Отрывки стихир цитируются в раздельноречной редакции текста по книге: Серегина Н. С. Песнопения русским святым. СПб., 1994. С. 228.
[23] Там же. С. 163.
[24] Там же. С. 161.
[25] Там же. С. 426.
[26] Выбор в качестве образца одной из стихир из службы Тихвинской иконе Богоматери для новой службы, вероятно, может быть объяснен тем, что Тихвинская икона Богоматери была на Выгу особо почитаемой. Древнее изображение на ней Богомладенца, благословляющего двуперстным сложением, являлось неоспоримым свидетельством его исконности и всегда использовалось старообрядцами в полемике с официальными церковными оппонентами.
[27] Подобный состав фиксируемых песнопений в йотированных рукописях был достаточно распространен и в период средневековья.
[28] Оба роспева величания являются типовыми для величаний господским и богородичным праздникам и нарочитым святым.
[29] Аналогичный прием «удревления» текстов за счет введения элементов хомонии отмечает Н. В. Рамазанова в поморской певческой традиции службы митрополиту московскому Филиппу (см.: Рамазанова Н. В. «Русскаго светильника, Филиппа премудрого, восхвалим» (служба святому в источниках XVII—XVIII вв.) // Рукописные памятники: Публикации и исследования. СПб., 1997. Вып. 4. С. 28).
[30] Подобным свойством обладают стихиры из службы Зосиме и Савватию Соловецким, что лишний раз подтверждает исключительную значимость культа соловецких святых в духовной жизни выговцев. (Благодарим А. Н. Кручинину за указание на эту аналогию.)
[31] Две фиты разведены в тексте.
[32] Помимо рассмотренных в наших статьях старообрядческих служб нам известна еще одна, посвященная памяти епископа Павла Коломенского. Текст этой службы был опубликован в старообрядческом журнале «Церковь» (Москва. 1911. № 43. С. 1025—1032) в качестве образца для создания новой службы старообрядческому святому в связи с его канонизацией старообрядческой церковью белокриницкого согласия в 1911 г. В предваряющей публикацию текста статье указывается источник текста — рукопись начала XIX в. из частного собрания. Здесь же высказывается предположение о принадлежности составителя службы к поморскому беспоповскому согласию. В БАН (собр, Чуванова, № 177) хранится лицевой список службы Павлу Коломенскому, сделанный в 30-х гг. XX в. старообрядцем-беспоповцем, возможно, с указанного издания или прямо с рукописи, послужившей источником для публикации. Две миниатюры с изображением Павла Коломенского, имевшиеся в списке XIX в. и в издании, повторены в рукописи из собр. Чуванова. Сама рукопись украшена еще несколькими незаконченными миниатюрами, иллюстрирующими сцены из жития святого.
Н. Г. Денисов, исследовавший текст службы Павлу Коломенскому, отмечает ряд особенностей, характеризующих содержание, струкутру и поэтические приемы текстов (см.: Денисов Н. Г. Служба старообрядческому святому — епископу Павлу Коломенскому // Музыкальная культура средневековья. М., 1992. Вып. 2. С. 33—39). Среди прочего в текстах службы изложены основные отличия старообрядческой церкви от «никонианской» — восьмиконечный крест, сугубая аллилуия, двуперстие, форма написания имени 1сус. В поэтических текстах широко используются анафорические повторы, а ирмосы канона 6-го гласа подобраны из канонов Страстной седмицы. Подобные особенности, как было показано в нашей статье, были свойственны и другим старообрядческим службам. Это может служить подтверждением предположения о принадлежности службы епископу Павлу Коломенскому к выговской литургической традиции.
Г. В. Маркелов. Старообрядческая исповедь для иконописца
В русской православной церкви таинство покаяния как богоучрежденного священного действия приобрело законченные формы только к XVII в. Чинопоследование покаяния, называемое Чином исповеди, вошло в старопечатные книги уже в дониконовский период и в этом древнейшем варианте с незначительными изменениями и дополнениями было перенесено в богослужебную практику старообрядцев. Древнерусский Чин исповеди представлял собой обрядовый диалог между пришедшим на покаяние христианином и испытующим его священником. В этот диалог входили обязательные элементы, образующие его каноническую форму. В самых общих чертах покаяние происходило следующим образом. Священник обязан был досконально расспрашивать кающегося о его личности, о сущности его прегрешений и нарушений Божиих заповедей, о том, где, как, когда и по какому побуждению это нарушение произошло. Кающийся должен был подробно и прямо ответить на заданные вопросы, после чего священник требовал произнесения символа веры для удостоверения того, что пришедший к покаянию верует православно и несомненно После чего священник либо «разрешал» кающегося, т. е. отпускал ему грехи в случае искреннего раскаяния, либо налагал соответствующие проступку епитимии. Епитимиям была издревле установлена подробная регламентация, содержащаяся в разнообразных правилах Номоканона или «Законоправильника» Легкие прегрешения отпускались тут же воздействием «разрешительной» молитвы, и кающийся, напутствуемый увещеваниями, допускался к причастию.[1]
Приведенный порядок чинопоследования встречается в основном в многочисленных рукописных требниках XIV—XVI вв С незначительными отличиями ту же структуру чина можно найти и в старопечатных требниках XVI—XVII вв. Частные отличия в Чине исповеди, встречающиеся в древнерусских книгах, вызваны прежде всего различиями в социальных категориях исповедующихся. Так, уже в требниках XVI в. появляются особые статьи, содержащие специальные вопрошания к князьям, боярам, детям боярским, вообще к мирским властителям и вельможам, а также к приказным и служащим у властей. Здесь же находятся нарочитые вопросы к поселянам и торговым людям В старопечатных требниках уже содержатся и более дифференцированные статьи, обращенные к женатым или холостым мужам, девицам или замужним женам, вдовам, детям разных полов, грамотным или «не умеющим грамоте» и т. д. Наконец, среди текстов XVII в. встречаются специальные вопросы для исповеди патриарха и даже самого царя.[2]
Нередко тексты Чина исповеди состоят не только из вопросов о прегрешениях кающегося, но и включают также ответы исповедников. Эти «типовые» ответы в сущности во всем повторяют порядок вопрошаний и излагаются в утвердительной форме с предваряющим сказуемым «согреших» (Согреших в том-то и в том-то, тогда-то и там-то).[3] Такие «отвещания» на исповеди назывались «поновлением», ибо чистосердечное покаяние освобождает христианина не только от груза прегрешений, но и обновляет его душу как бы вторым крещением.[4]
Как известно, старообрядцы—беспоповцы сохранили у себя таинство покаяния и вынуждены были сосредоточить в нем значительную часть своего религиозного чувства, поскольку некоторые другие важные церковные таинства беспоповцы отвергли. По этой причине беспоповский чин исповеди постоянно подвергался корректировкам в сторону расширения как номенклатуры статей, так и регламентации самой покаянной дисциплины.[5] Любопытным примером такого расширенного старообрядческого чинопоследования исповеди является текст XIX в., ставший нам известным по рукописи из фонда Древлехранилища Пушинского Дома, колл. И. А. Смирнова, № 7. Рукопись впервые упомянута В. И. Малышевым как Чин (поморский) исповеди.[6] В 1960-х гг. А. С. Демин, описывая коллекцию И. А. Смирнова, назвал эту рукопись Требником поморским.[7] Ниже приводится описание рукописи с нашим названием:
Сборник исповедальный.XIX в. (начало), в 4-ку, 178 л.; л. 2—162 переписаны полууставом, близким к поморскому типу почерка; л. 163—171—беглый полуустав; л. 172—175 — подражание печатному шрифту; л. 1, 176—178 — без текста, заглавия и буквицы выполнены киноварью, переплет — доски в тисненой коже, сохранилась одна из двух медных застежек. Бумага с фабричными «белыми» датами «1806» и «1807» гг. На верхнем форзаце карандашная помета «Иван Степанович Укащин» (?), помета о поступлении рукописи в РО Пушкинского Дома в 1956 г. и помета карандашом «Г. Скачков?» (рукою В. И. Малышева?). На л. 1 чернильный штамп библиотеки Ивана Алексеевича Смирнова.
Содержание:
«Оглавление (л. 2), Предуведомление духовнику (л. 4 об.), Предварительное ведение о новоприходящих (л. 9 об.), Чин исповедания (л. 11 об.). Вопросы о грехах. Статья всеобщая (л. 18), Статья 2. Вопросы различный по чинам и состоянию. Духовникам (л. 39 об.), Статья 3. Клирошанам (л. 43), Статья 4. Иконописцем (л. 44 об.), Статья 5. Господам или хозяевам (л. 46), Статья 6. Купцам, торговым (л. 47), Статья 7. Златоделателям (л. 48), Статья 8. Шелковинкам (л. 48 об.), Статья 9. Портным (л. 49), Статья 10. Златошвеям и низалщицам (л. 49 об.), Статья 11. Сапожникам (л. 50), Статья 12. Медникам (л. 50 об.), Статья 13. Кузнецам (л. 51), Статья 14. Мелникам (л. 51 об.), Статья 15. Работникам и поденщикам (л. 52), Статья 16. Хлебопахателям и сенокос(цам) (л. 52 об.), Статья 17. Нищим (л. 53), Статья 18. Учителем писания (л. 52 об.), Статья 19. Судиям (л. 54), Статья 20. Неженатым (л. 55), Статья 21. Вопросы женатым (л. 57), Статья 22. Вдовцам (л. 64), Статья 23. Вопросы женкому полу. Девицам (л. 65), Статья 24. Женам мужним (л. 67), Статья 25. Вдовицам (л. 75). Поповление. К статьи первой, всеобщее (л. 76 об.), К статьи 2. Поновления различная по чинам и состоянию. Духовников (л. 89), К статье 3. Клирошан (л. 92 об.), К статьи 4. Иконописцев (л. 94), К статьи 5. Господ и хозяев (л. 95), К статьи 6, Купцов, торговых (л. 96 об.), К статьи 7. Златоделателей и среброде(лателей) (л. 96 об.), К статьи 8. Шелковников (л. 97), К статьи 9. Портных (л. 97 об.), К статьи 10. Златошвей и низалщиц (л. 98), К статьи 11. Сапожников (л. 98 об.), К статьи 12. Медников (л. 99), К статьи 13. Кузнецов (л. 99 об.), К статьи 14. Мелником (л. 100), К статьи 15. Поденщиков и прочих (л. 100 об.), К статьи 16. Хлебопахателей и сенокос(цев) (л. 101), К статьи 17. Нищих (л. 101 об.), К статьи 18. Учителей писания (л. 102), К статьи 19. Судей (л. 102 об.), К статьи 20. Неженатых, впадших в растление (л. 103), К статьи 21. Женатых мужей (л. 104), К статьи 22. Вдовцев (л. 107 об.), К статьи 23. Девице (л. 108), К статьи 24. Жен мужних (л. 109 об.), К статьи 25. Вдовице (л. 113), Окончание. По исповеди всех грехов… (л. 114), Поучение кающемуся (л. 119 об.), Рассмотрение о епитимиях (л. 128), Вопросы не умеющим грамоте, принадлежащий к началу исповеди (л. 130), Десять заповедей (л. 131 об.), Седмь дел милости духовных (л. 133), Седмь дел милости телесных (л. 134 об.), Показание различных грехов (л. 136), Грехи вопиющыя на небо (л. 137 об.), Грехи противу Сына Человеческаго (л. 139 об.), Грехи противу Духа Святаго (л. 140 об.), Грехи бывают по четырем причинам или винам (л. 143 об.), О подробности вопросов (л. 144), Из епитимейника (л. 153), О спасительных плодах исповеди (л. 163), Како покаяние подобает приносити заблаговременно (л. 165 об.), Яко Христос с слезами и исповеданием грехов прекланяется к прощению (л. 167 об.), О милосердии Божии к грешникам кающимся (л. 169 об.), Выписки из чина исповеди (без заглавия) (л. 172)».
Наибольший интерес в сборнике вызывают тексты, неизвестные по другим старообрядческим спискам, которые начинаются в Сборнике со второй статьи (л. 39). Здесь приведены перечни вопросов, которые должны были задаваться на исповеди различным категориям («чинам») членов беспоповской общины. Номенклатура вопросов затрагивает специфические стороны деятельности каждого из «чинов» в соответствии с их профессиональной сферой деятельности. После вопросов в Сборнике помещены «поновления» для каждого чина. Завершается рукопись текстами наставлений для кающихся, «рассмотрениями» о епитимиях, перечнями злых и добрых дел и т. д.
Среди статей Сборника наше внимание привлекли тексты, связанные с иконопочитанием и иконописцами. Уже в начальном разделе рукописи в «Статье первой всеобщей» содержатся вопрошания об иконах, которые надлежало задавать в начале исповеди всем пришедшим прихожанам, поскольку в этих вопросах заключались важнейшие положения вероисповедного характера. В числе таких вопросов значатся следующие: «Креста Христова или святых икон ради уверения чего в правде или не целовал ли и других к тому не приводил ли или приводить не советовал ли?[8] Не подымал ли икону на руки, божася, и других к сему не приводил ли и не советовал ли кому делать так? …Писания святых икон не хулил ли[9] и других к тому не доводил ли, или что неподобнаго и хулнаго о святых иконах не помышлял ли или кому не говорил ли? Не называешь ли святыя иконы Богом и не воздаешь ли им Божия чести и прочих не научал ли?[10] Не полагаешь ли особеннаго упования или надежды на какия святыя иконы? Не вымышлял ли каких чудотворений ложно святым иконам или кого не научал ли или научать не советовал ли? Не становишь ли свещ или масла, уважая токмо икону, а не того, кто воображен на иконе, или не делывал ли сего токмо ради тщеславия? Не делывал ли на святыя иконы окладов не ради того, чтоб почтить того святого, чья есть икона, но ради тщеславия? Также не делывал ли окладов на чужия денги с обидой ближняго? Не грабил ли святыя иконы или что не брал ли с них тайным образом? Или не имел ли намерения ограбить святую икону или взять с нея тайно какую полюбившуюся вещь, как то: крест, камень, жемчуг или что иное и не научал ли или не советовал ли кому? Для святых икон на оклад свещи, масло, ладан ложно не собирал ли или кого не научал ли и не советовал ли кому?».
Вопросы об отношениях к иконам, издревле входившие в число обязательных общих вопросов на исповеди, встречаются во всех древнерусских требниках. В нашей рукописи обращают на себя внимание по крайней мере два важных аспекта, которые выделены в виде вопросов о поругании иконных изображений и о ложном поклонении иконам как «богам». Надо полагать, что для строобрядческих наставников-духовников, приводивших к исповеди и покаянию свою паству в начале XIX в., указанные вопросы сохраняли вероучительную проблематику. В обиходном сознании допускалось различное отношение к иконам (вспомним русскую пословицу «Годится — молиться, а не годится — горшки покрывать», примету «Икона упадет — к покойнику» или присловье «Я хоть образ со стены сыму» (чтобы поклясться)), коренившееся в исконном двоеверии простонародья.
В рассматриваемой рукописи содержится уникальный текст особой исповеди и поновления для иконописцев, раскрывающий некоторые особенности их частной жизни и профессиональной сферы деятельности. Приведем эти тексты полностью:
Л. 44 об. «Статья 4. Иконописцем.
- Со истинным ли намерением писал и пишешь святыя иконы для почести и поклонения?
- Стараешися ли о истовом воображении святых образов, чтоб были первообразным, а не развращенно видимыя?
- Не обманывал ли кого, променивая неискусно написанную икону, называя, что она есть самого лучшего мастерства?
- За написание святых икон не брал ли неумеренныя цены и тем не обидел ли ближняго?
- Не хулил ли подобнаго себе иконописателя, от зависти укаряя его мастерство для собственнаго приобретения?
- Давая кому писать для своего пособия, не обижал ли за его труды ценою, и хорошо написанное не хулил ли?
- Починивая кому иконы, не пременил ли, оставя себе лучшаго мастерства, а у кого взял, тому отдал нискаго?
- Работников твоих или учеников не обижал ли ценою, пищею и одеждою и без вины не бивал ли?
- Быв с женою и не омывшися, не приимался ли или и не писал ли святых икон?
- На поругание и осмеяние еретикам или инославным святых икон не писал ли и не променивал ли?».
Л. 94 «ПОНОВЛЕНИЯ к статьи 4. Иконописцев.
- Согреших, иногда с намерением лестным и нестаранием о истовом воображении писал святыя иконы?
- Согреших, променивая иконы, иногда имел лесть и обман, называя и уверяя низкое мастерство высоким и хорошим мастерством?
- Согреших, за написание святых икон иногда с незнающих брал неумеренную цену, а кому давал писать для моего пособия, тех за труды обижал ценою?
- Согреших, иногда хулил от зависти подобнаго себе иконописателя, и укаряя его мастерство?
- Согреших, иногда хулил от зависти подобнаго себе иконописателя?
- Согреших, починивая кому иконы, иногда переменивал оныя, оставя себе лучшую, а у кого взял, тому отдавал низкаго мастерства?
- Согреших, иногда обижал ценою работников и учеников моих?
- Согреших, иногда быв с женою моею и не омывшися, различных ради случаев, приимался, а иногда и писал святыя иконы?
- Согреших, иногда писах святыя иконы для внешних, хотя и не на осмеяние и поругание, но по их усердию на почесть и поклонение?
Напомню, что в нашей рукописи чин иконописцев занимает в перечне исповедующихся место между духовниками и клирошанами. Такое достаточно высокое положение иконописцев в церковной иерархии старообрядческой общины имеет древние корни. Среди древнерусских памятников об этом свидетельствуется, в частности, в Стоглаве. В 43-й главе памятника церковным властям предписывалось «…бречи о многоразличных церковных чинех, паче о святых иконах и о живописцех и о прочих церковных чинех…».[11] В отношении особо выдающихся мастеров Стоглав призывал «…царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати паче простых человек…».[12] Из текста нашей исповеди явствует, что иконники и в старообрядческих общинах XVIII—XIX вв., согласно древнейшей традиции, признавались «паче простых человек», следуя сразу после духовников-наставников.
Обратимся непосредственно к содержанию вопросов исповеди. Первый вопрос затрагивает личное отношение иконописца к своей работе. Подразумевалось, что благочестивый иконник пишет иконы для благочестивого же почитания, а не работает ради мзды. Об «истовости» иконного изображения, т. е. о соответствии его «первообразным» иконам, гласит второй вопрос исповеди.[13] В нем идет речь об установленном соответствии новонаписанных икон иконографическому канону. Этот важнейший аспект церковно-православного искусства сформулирован в 5-й главе Стоглава о церковном строении, в третьем царском вопросе о святых иконах: «…по божественным правилом, по образу и по подобию и по всякому существу образ Божий написати и пречистые Богородицы, и всякаго святаго, угодников Божиих, и о всем свидетельство в писаниих Божиих у вас есть…».[14] Далее, в 41-й главе Стоглава это положение конкретизируется: «Писати иконы с древних преводов, како греческие иконописцы писали и како писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы…, а от своего замышления ничтоже предтворяти».[15] В 43-й главе «О живописцех и честных иконах» Стоглав еще раз указывает иконописцам: «…с превеликим тщанием писати и воображати на иконах и на деках Господа нашего Исуса Христа и Пречистую Его Богоматерь… и всех святых по образу и по подобию и по существу, смотря на образ древних живописцев и знаменита с добрых образцов».[16]
Третий вопрос исповеди касается добросовестности при продаже иконы. Согласно древней традиции готовую икону нельзя было продать на торгу как обыкновенное рукоделие, ибо этого не допускала сама сакральная сущность образа (святыни не продаются). Поэтому имевшая место фактическая продажа икон именовалась в старину эвфемизмами: менять, променивать, обменивать и т. п. Содержание третьего вопроса корреспондирует с текстом Стоглава. В 43-й главе памятника указывается: «…а которые иконники неучи по се время писали не учася, самовольством и самоловкою и не по образу, и тех иконы променяли дешево простым людем поселяном невежам, и тех положити в запрещение, чтобы училися у добрых мастеров, и которому даст Бог учнет писати по образу и по подобию, и то бы писал, а которому не даст Бог, и им впредь от таковаго дела престати, да не Божие имя от таковаго писма похулится. Аще которые не престанут от таковаго дела, таковии царскою грозою накажутся…».[17] В приложении к основному тексту Стоглава приведено еще одно определение о торговле «в рядах» дурно писанными иконами: «Оговорити государю о иконописцех, чтобы на Москве и по всем городом немастерское писмо в рядех иконы собрати, и допытатися тех иконописцев, и впредь им не велети икон писати, дондеже научатся у добрых мастеров».[18]
С третьим вопросом тематически связан четвертый вопрос исповеди о взимании неумеренной цены за икону. И этому вопросу имеется соответствие в первоисточниках XVI в. В известном «Сказании о святых иконах» Максима Грека в 6-й главе находим следующий текст: иконописец «…ценою сребра да не отягчит святыя иконы, но доволен будет от имущаго прияти на пищу и одежду и на рукоделие шаровнаго запасцу». При этом и заказчику икон подобает «…не оскудити, удоволити честнаго изографа, якоже должно и удобно, да не стужает о неких нужных потребах нань».[19] Заметим, что сочинения Максима Грека оказали заметное влияние на тексты решений Стоглавого собора, в том числе и на формулировки положений, касающихся иконописания и самих иконописцев.[20]
Пятый вопрос исповеди снова касается личных качеств иконописца как христианина. В вопросе однозначно порицается чувство зависти к другому мастеру. В Стоглаве грех завистничества также упоминается, однако объектом его указывается ученик живописца: «…аще которому ученику открыет Бог такое рукоделие иконнаго писма, и жити учнет по правильному запрещению, а мастер учнет хулити его по зависти, дабы не приял чести, яко же и он прия, святитель же обыскав, полагает таковаго мастера под запрещением правильным, ученику же подает вящшую честь».[21] Отношениям мастера и учеников (или работников) посвящены также шестой и восьмой вопросы исповеди. В Стоглаве та же тема предстает в виде прямой инвективы: «Аще кто от тех живописцев учнет сокрывати талант, еже дал Бог, и учеником по существу того не даст, таковый осужден будет от Бога со скрывшими талант в муку вечную»[22] — и далее: «…живописцы, учите учеников без всякого коварства, да не осуждены будете в муку вечную».[23]
Седьмой вопрос исповеди — о починке (поновлении) икон, которая была обычным делом, издревле практиковавшимся в среде иконописцев. В Стоглаве зафиксировано близкое по смыслу обращение к протопопам и священническим старейшинам: «…во всех святых церквах дозирати святых икон…, и которые будут святые иконы состарилися, и те иконы старыя велети иконникам починивати, а которые иконы мало олифляны и те бы иконы велели олифити…».[24]
Формулировка девятого вопроса исповеди недвусмысленно свидетельствует о статусе старообрядческого иконописца как человека женатого. Отсюда следует, что рассматриваемый текст происходит из старообрядческой общины, признающей брак законным. Такой общиной могла быть одна из беспоповских общин поморского согласия, обосновавшихся в Москве или Петербурге.[25] Ко времени написания нашей рукописи — началу XIX в. — среди бракоприемлющих общин была, например, Монинская в Москве, возглавлявшаяся с 1808 г. наставником Г. И. Скачковым, имя которого мы встречаем на форзаце нашей рукописи. Примечательно, что Г. И. Скачков организовал при Монинской моленной иконописную палату, которая приносила общине большой доход и произведения которой распространялись по всей России.[26] Известно также, что Г. И. Скачков неоднократно пытался вводить разного рода чинопоследования собственного сочинения, с помощью которых регламентировалась обрядовая практика управляемой им общины. В частности, перу Скачкова принадлежат: Чин брачного молитвословия, Чин приема в поморскую церковь от федосеевцев и филипповцев, Чин очищения родившей жене отроча, Чин певаемый во время сочетания брака и др.[27] В «Историческом словаре» Павла Любопытного отмечено сочинение Скачкова под названием «Прекрасный, легкий и удобный чин церковного исповедания, изражающий грехи людей в родах народного звания»[28]* (курсив мой. — Г М) Не исключено, что рассматриваемая нами рукопись содержит именно это сочинение Скачкова.
С девятым вопросом исповеди соотносится и положение Стоглава. В 43-й главе Стоглава засвидетельствовано допущение семейного положения иконописца как «сочетавшегося законным браком»: «Подобает бо быти живописцу смирну и кротку, благоговейну, не празднословцу, ни смехотворцу, ни сварливу, ни пияницы, ни убийцы, но же всего хранити чистоту душевную и телесную со всяким опасением, не могущим же до конца тако пребыти — по закону женитися и браку сочетатися, и приходите ко отцем духовным часто на исповедание».[29]
Наконец, десятый вопрос исповеди касается предполагаемой продажи икон лицам иных конфессий, что, вероятно, жестко порицалось в старообрядческих общинах. В Стоглаве этот вопрос не затронут, однако уже упоминавшееся сочинение Максима Грека содержит следующий запретительный пассаж: «…а неверным и иностранным, паче же рещи нечестивым и поганым арменом святых икон не писати, и на сребро и злато не меняти. Писано бо есть: не дадите святая псом».[30] Между тем, как свидетельствует сложившаяся в российском иконописании практика, иконы старообрядческого письма весьма часто находили применение в быту православных верующих-«никониан». Иконописцы-старообрядцы нередко исполняли заказы «никониан» по их «усердию», что недвусмысленно зафиксировано в тексте «поновления» девятого вопроса исповеди В разных слоях православного общества любили традиционную икону, написанную старообрядцами по старым русским канонам, отдавая ей предпочтение перед новой церковной живописью, создававшейся по правилам «синодального реализма».
Содержание вопросов и «поновлений» исповеди приводит к следующим выводам. В тексте отражена сложившаяся в определенной старообрядческой среде практика регулярного покаяния иконописца перед духовным отцом.[31] По смыслу задаваемых вопросов видна четкая ориентация жизни иконописцев на строгие идеалы трехвековой давности, отраженные в ряде статей Стоглава.[32] Списки Стоглава во множестве встречаются в разных собраниях строобрядческих рукописей, поскольку староверам-начетчикам Стоглав служил опорным первоисточником и по многим другим вопросам. Более того, подборки статей из Стоглава с присовокуплением соответствующих слов Максима Грека почти всегда встречаются в виде вступительных глав в особых книгах русских иконописцев, а именно— в иконописных подлинниках, служивших не только справочниками или практическими пособиями для работы, но и комплексными руководствами в теоретических вопросах иконописания. По всей вероятности, именно эти вступительные главы подлинников и послужили автору исповеди текстовыми источниками. Установки Стоглавого собора 1551 г. об иконописи и иконописцах сохраняли действенную силу и в начале XIX столетия,[33] поскольку в них были концентрированно выражены не только главные принципы православного отношения к иконе и иконописцам, но и незыблемые нормы христианской этики живописца.
[1] Новая скрижаль М , 1992 Т 2 С 367—370 Многие аспекты древнерусской покаянной дисциплины исследованы вкн Смирнов С Древнерусский духовник М, 1913
[2] Алмазов А. Тайная исповедь в православной церкви. Опыт внешней истории. Одесса, 1894. Т. 3. С. 170, 171, 174, 185, 207.
[3] Например, в тексте XVII в. «поновления» инокам есть вставка: «Се писарям: Согреших, преписывая святая Божественная писания святых апостол и святых отец по своей воли и по своему недоразумению, а не якож есть писано». См.: Алмазов А. Тайная исповедь… Т. 1. С. 368.
[4] В тексте Чина исповеди из Требника XVII в. есть следующие слова, которые произносит священник перед пришедшим на покаяние человеком: «Се ныне, чадо, обновитися(курсив мой. — Г. М.) хощеши святым сим покаянием» (Требник. М., 1625. Л. 162). Часто встречающийся среди старообрядческих рукописей XVIII—XIX вв. текст «Скитского покаяния» является, в сущности, текстом такого общего «поновления», предназначавшимся для чтения дома или в келье без участия священника или духовного отца.
[5] В указателе В. Г. Дружинина отмечены «Чин исповеди беспоповинский» и «Устав Выговский об исповеди» («Отцем духовным на исповеди лепо вопрошали. Первое: не имеет ли кто сокровеннаго сребра, денег и прочее…»), см.: Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. СПб., 1912. С. 462, № 846; с. 453, № 804.
[6] Малышев В. И. Древнерусские рукописи Пушкинского Дома: Обзор фондов. М.; Л., 1965. С. 144.
[7] См. опись А. С. Демина в формуляре коллекции И. А. Смирнова в Древлехранилище ИРЛИ. Самоназвания рукопись не имеет.
[8] В церковных и монастырских Обиходах встречаются специальные «уставцы» о целовании икон. Например, в рукописной поморской копии с обиходников Кирилловского и Троице-Сергиева монастырей, сделанной Ф. П. Бабушкиным, говорится, что братия вслед за игуменом целует лежащую на аналое икону «…Спасов образ в ногу, Нерукотворенный ж Спасов образ в косу, пресвятыя Богородицы образ в руку и святаго образ в руку» (БАН, собр. Дружинина, № 327, л. 89 об.) Обычай целовать иконы по разным случаям отражен в поговорке «Наперед икону целуй, там отца и мать, а там хлеб-соль». В Стоглаве целование икон отмечено в следующей статье 38-й главы: «Всего злее, еже крест животворящий целовати на криве или икона святыя Богородицы или иного коего святого образ», см.: Стоглав. Издание Д. Е. Кожанчикова. СПб., 1863. С. 121.
[9] Ср. вопрос в Чине исповеди: «Не похулил ли иконнаго мастерства и не пресмеял ли?» (по рукописи конца XIX в. Древлехранилища, Усть-Цилемское собр., № 18, л. 150).
[10] Ср. вопрос в поморском Чине исповеди XIX в.: «…иконнаго изображения богами не называл ли?» (по рукописи Древлехранилища, Латгальское собр., № 452, л. 118 об.). С этим же положением связано и запрещение божбы перед иконами.
[11] Стоглав. С. 150.
[12] Там же. С. 151, 297.
С этим вопросом корреспондирует встречающийся в текстах иноческого покаяния текст: «Взирах на святыя иконы с помыслы неподобными», см.: Алмазов А. Тайная исповедь… Т. 1. С. 215.
[14] Стоглав. С. 42.
[15] Там же. С. 128.
[16] Там же. С. 151.
[17] Там же. С. 152—153.
[18] Там же. С. 310.
[19] Философия русского религиозного искусства: Антология. М., 1993. С. 48. Ср.: Тарасов О. Ю. Икона и благочестие: Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995. С. 138—139.
[20] Иванов А. И. Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969. С. 119, примеч. 56.
[21] Стоглав. С. 152.
[22] Там же.
[23] Там же. С. 154.
[24] Там же. С. 95.
[25] В беспоповских общинах федосеевцев иконописцы могли быть только девственниками, и их статус был почти приравнен к статусу настоятеля. См.: Тарасов О. Ю. Икона и благочестие… С. 134.
[26] Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. М., 1996. С. 260.
[27] Перечень сочинений Г И Скачкова см Любопытный П О Исторический словарь и каталог и библиотека староверческой церкви М , 1866 С 91—96, Дружинин В Г писания русских старообрядцев СПб , 1912 С 251—255 Здесь Чин исповеди среди сочинений Скачкова не упомянут
[28] Любопытный П О Исторический словарь С 94, № 268
[29] Стоглав С 150
[30] Философия русского религиозного искусства С 48
[31] О необходимости систематического покаяния иконописцев в Стоглаве говорится « приходити ко отцем духовным часто на исповедание и во всем извещатися, и по их наказанию и учению в посте и молитве пребывати, кроме всякаго зазора и бесчинства», см Стоглав С 150
[32] «Моральный кодекс для иконописцев брался, как правило, из 43-й главы Стоглава и подкреплялся ссылкой на Кормчую письменную, глава которой „Сказание о иконописцах, каковым быти подобает» представляла собой выпись из Исидора Пелусийского Их связь между собой несомненна, поскольку Кормчая, как известно, составлялась Макарием накануне Стоглавого собора», см Тарасов О Ю Икона и благочестие С 132
[33] Характерно, что и в начале XX в. «возрождался не только средневековый художественный язык иконы, но и средневековая нравственно-религиозная модель иконописца. Ориентация на Стоглав недвусмысленно прозвучала при открытии (иконописной) школы в Палехе…», учащиеся которой должны были быть подготовлены к вступлению в учебную мастерскую «согласно учению Стоглава», см.: Тарасов О. Ю. Икона и благочестие… С. 281.
Г. В. Маркелов. Коллекция рукописей И. Н. Заволоко в Древлехранилище Пушкинского Дома
Коллекция рижского собирателя древнерусских рукописей Ивана Никифоровича Заволоко представляет собой единый комплекс разных историко-культурных документов XV—XX вв., включающий как древнерусские книги, так и актовый материал XIX—XX вв., объединенный в одно неразрывное целое не столько волей собирателя, сколько географической общностью их приобретения — Прибалтикой. Изучая историю и культуру русского населения Прибалтики, нельзя не учитывать материалов, собранных Заволоко. По существу он один сделал то, что было бы под силу коллективу ученых, — создал целое территориальное собрание рукописей, найденных в Латвии (Рига, Латгалия) и Эстонии (Причудье). Причем это вторая его коллекция — первая пропала во время войны.
Иван Никифорович Заволоко родился в г. Режице (ныне Резекне) в 1897 г. С детских лет увлекся книгами, окончил в 1927 г. Пражский университет, где в семйнаре имени Н. П. Кондакова он на всю жизнь заинтересовался русскими древностями и археографическими исследованиями. Вернувшись в Ригу, Заволоко активно занялся регистрацией и собиранием памятников древнерусской культуры, разъезжал с просветительско-собирательской целью по разным районам Прибалтики, издавал журнал «Родная старина», организовал кружок Ревнителей старины, издавал книги по древней русской истории, искусству и старообрядчеству, духовные стихи и мн. др. Имя его становится широко известно в русской старожильческой среде Латвии и Эстонии, всем тем, кто, как и он, отстаивал свою национальную самобытность. Результатом его археографических изысканий, кроме собранной им коллекции лицевых рукописей, стала находка второго известного списка «Слова о погибели земли русской».[1] С 1940 г. И. Н. Заволоко не мог заниматься научно-практической деятельностью.
Вернувшись в 1958 г. в Ригу, И. Н. Заволоко близко познакомился с В. И. Малышевым, который предложил ему снова заняться собиранием, книжной старины. Громадный научный и духовный авторитет И. Н. Заволоко в Прибалтике вновь обеспечил ему успех в собирании. Венцом его поисков стало открытие в 1967 г. Пустозерского сборника автографов Аввакума и Епифания. В 1968 г. И. Н. Заволоко передает рукопись в дар Пушкинскому Дому.[2] И. Н. Заволоко неоднократно участвовал в научной работе Сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома, ездил в археографические экспедиции Института. Начиная с 1974 г. в Древлехранилище Пушкинского Дома учреждается новый фонд — коллекция И. Н. Заволоко. В том году поступило 166 рукописей XV—XX вв., в 1975 г. — 74, в 1976 г. — 16, в 1977 г. — 26 рукописей и в 1978 г. — 21 рукопись. Вместе с рукописями Причудского и Латгальского собраний они составляют ценнейший прибалтийский фонд в Древлехранилище.
Кроме Пушкинского Дома И. Н. Заволоко передавал свои находки в ГПБ, ГБЛ, в музеи и архивы Риги, Тарту, Резекне.
В общем обзоре невозможно упомянуть обо всех достоинствах коллекции, скажу только, что имя Ивана Никифоровича вполне сопоставимо с именами таких знатоков и корифеев древнерусской книжности, как В. Г. Дружинин, Ф. А. Калинин, В. И. Малышев.[3]
В Древлехранилище Пушкинского Дома имеется машинописная опись рукописей коллекции. Ниже предлагается обзор содержащихся в фонде произведений.
Древнерусская повествовательная литература представлена в коллекции следующими списками: повести — о Тимофее Владимирском, № 33 (XIX в.), Никодима Типикариса, № 8 (XVIII в.), о Никоне (из жития Корнилия Выговского), № 245 (XIX в.), о происхождении хмеля, № 182 (XIX в.), сказание Ивана Пересветова о царе турском Махмете, № 231 (XIX в.); Жития р у с с к и е — Александра Свирского, № 1 (1672 г.), Антония Римлянина, № 1 (1672 г.), Ефросиньи Полоцкой, № 19 (XIX в., отрывки), Корнилия Выговского (пахомиевской редакции), № 16, 245 (XIX в.), боярыни Морозовой и Евдокии Урусовой (с «надсловием»), К° 231 (XIX в.), Пафнутия Боровского, № 34 (XIX в., отрывки).
Раздел русских слов и поучений включает: Кирилла Туровского Слово о расслабленном, № 13 (XVIII в.), похвальные слова Александру Свирскому, № 1 (1672 г.) и Антонию Римлянину (там же), Максима Грека слово о нестроении и бесчиниях царей, № 293 (XX в.), выписки из, его же слов, № 45 (XX в.), слова на перенесение мощей Николы Мирликийского, № 254 (XX в.), на преставление Савватия Соловецкого, № 2 (XIX в.), поучение отца духовного к чаду/ «от словес Златоустовых», № 231 (XIX в.), к забывающим поминать души сродников, № 59 (XIX в.), о злых страстях, № 305 (XIX в.).
В коллекции имеются русские церковно-служебные произведения: службы богородичным иконам — Владимирской, № 1 (1672 г.), Казанской, № 6 (XVIII в.), Федоровской, № 16, 126 (XIX в.), Тихвинской, № 16 (XIX в.), святым Александру Свирскому,№1 (1672г.) и Антонию Римлянину (там же), Зосиме и Савватию Соловецким, № 16 (XIX в.), новым московским чудотворцам, № 109 (XVII в.), № 16 (XIX в.), Сергию Радонежскому, № 10 (XVIII в.), № 16 (XIX в.), служба на освящение церкви св. Георгия в Киеве, .№ 184 (XIX в.).
Апокрифические памятники: Беседа трех святителей, № 5 (XVIII в.), вопросы и ответы Псевдо-Афанасия князю Антиоху, № 56 (XIX в.), № 253 (XX в.), жития Василия Нового и Григориево видение (с оригинала, 1558 г.), № 2 (XIX в.), Ильи Пророка, № 13 (XVIII в.), Петра и Павла (там же), Иерусалимский свиток, № 41 (XX в.), № 27 (XIX в.), молитва арх. Михаилу, № 24 (XIX в.), № 74 (1973 г.), послание Лентула римскому Сенату об облике Христа, № 8 (XVIII в.); Сказания: Афродитианово, № 13 (XVIII в.), о 12пятницах, № 41 (XIX в.), № 305 (XX в.), о страстях Исуса Христа, № 24 (XIX в.), № 45 (XX в., отрывки), о поклонении волхвов, № 181 (XIX в.), о нерукотворном образе Христа, № 13 (XVIII в.), № 254 (XX в., о плащанице Авгаря, об обретении образа «иже в Камулиянех», принесение его в Константинополь), Сон Богородицы, № 41 (XX в.), № 305 (XX в.), Хождение Богородицы по мукам (там же), Что сотворил бог, а что бес, № 42 (1930 г.), «эпистолия» апостола Павла № 2 (XIX в.).
В рукописях коллекции И. Н. Заволоко содержатся произведения переводной агиографии: ж и т и я — Алексея человека божия, № 1 (1672 г.), № 33 (XIX в.), Андрея Критского, № 30 (XIX в.), Андрея Юродивого, № 58 (XIX в., отрывки), св. Георгия, № 6 (отрывки), № 13 (XVIII в.), чудо его о змее, № 288 (XIX в.), Григория Амиритского, № 11 (XVIII в.), Димитрия Солунского, № 13 (XVIII в.), Екатерины великомученицы, № 1 (1672 г.), Козьмы и Дамиана, № 13 (XVIII в.), Максима Исповедника, № И (XVIII в.), Марии Египетской, № 1 (1672 г.), Мины великомученика, № 5 (XVIII в.). Николы, № 6 (XVIII в., чудеса), Нифонта Кипрского, № 54 (XIX в.), Сильвестра, папы римского, № 11 (XVIII в.), 40 мучеников севастийских, № 13 (XVIII в.), Спиридона (там же), Федора Тирона, № 6 (XVIII в.), страсти Виктора и Стефана, Кантомона и Неофита, Потипа отрока, Тульяна и Василисы, № 45 (XX в.), Харлампия мученика, № 6 (XVIII в.), № 33 (XIX в.).
Переводные повести и сказания: об Агее царе, № 293 (XIX в.), об Адаме и Еве, № 257 (XVIII в., иллюстрированное сказание), «Аптека духовная», № 305 (XIX в.), о бесе в непокрытых сосудах, № 19 (XIX в.), № 45 (XX в.), о бесе, девиц украшающем, № 19 (XIX в.), о блудном старце (из Патерика Египетского), № 293 (XIX в.), о Варлааме и Иоасафе, № 39 (1905 г.), из Великого Зерцала, № 6, 257 (XVIII в.), № 19, 24, 127, 180 (XIX в.), № 45 (XX в.), о 12 друзьях человека, № 231 (XIX в.), о дочери иерея идольского, № 185 (XIX в.), об Иверской иконе Богородицы, № 2 (XIX в.), № 45 (XX в.), о купце и жене его, № 27 (XIX в.), легенда об оживленной курице, № 254 (XX в.), о лестовке, № 106 (1871 г., настенный лист), о Макарии Египтянине, № 5 (XVIII в.), о Матроне христианке, № 19 (XIX в.), о милостивом человеке, № 26 (XIX в.), о загробных муках грешников, № 257 (XVIII в., лицевое), о некоей старице и постнице, № 5 (XVIII в.), пономаря церкви в Хонех, № 13 (XVIII в.), о происхождении иконы Богородицы троеручицы, № 243 (XIX в.), о ризе Богородицы Влахернской, № 13 (XVIII в.), о ризном украшении, № 26 (XIX в.), о Софии премудрости божией, с толкованиями, № 69 (XX в.), об Удоне Магдебургском, № 58 (XIX в.), о Федоре купце, № 27 (XIX в.), из Шестоднева, № 257 (XVIII в., лицевое).
Переводные слова и поучения: Анастасия Синайского, № 13 (XVIII в.), № 2 (XIX в.), Афанасия Александрийского, № 164 (XIX в.), № 129 (XX в.), № 39 (1905 г.), Василия Великого, № 13 (XVIII в.), № 164 (XIX в.), № 45 (XX в.), аввы Дорофея № 165 (XIX в.), Евагрия мниха, № 5 (XVIII в.), Ефрема Сирина, № 5, 13 (XVIII в.), № 165 (XIXв.), Иоанна Златоуста, № 6,13 (XVIII в.), № 2,15,23,27,61,163-165, 185, 231 (XIX в.), № 39, 45, 253 (XX в.), Ипполита папы римского, № 39 (XX в.), Кирилла блаженного, № 249 (XIX в., настенный лист), Кирилла Философа, № 2 (о хмеле), № 24 (XIX в.), Макария отца «главизны», № 129 (XX в.), Максима Исповедника, № 109 (XVII в., иноческие), Никона Черногорца, № 129 (XX в.), Нила Синайского, № 45 (XX в.), Федора Студита, № 5 (XVIII в.), № 63 (XIX в.). Целый сборник слов и поучений— № 13 (XVIII в.) содержит произведения: Аммония мниха, Андрея Иерусалимского, Андрея Критского, Аркадия Кипрского, Василия Селевкийского, Германа св., Григория Богослова, Дионисия Александрийского, Елисея пророка, Епифания Кипрского, Иоанна Богослова, Иоанна Дамаскина, Иоанна Евхаитского. Иоанна мниха, Иоанна экзарха болгарского, Исидора Пелусийского, Исихии пресвитера, Иульяна Тавийского, Кирилла Иерусалимского, Кирилла мниха, Климента епископа, Козмы пресвитера, Константина Порфирогенита, Леонтия пресвитера, Севериана Авальского, Прокла патриарха, Тарасия архиепископа.
Анонимные слова и поучения: о гордых, № 231 (XIX в.), инокам, № 33 (XIX в.), на иудеев, № 288 (XIX в.), о матерной брани, № 26, 231 (XIX в.), о молитвах, № 33 (XIX в.), в неделю 50-ю, № 5 (XVIII в.), о некоем боярине Иоанне, № 34 (1894 г.), Николе похвальное слово, № 17 (XIX в.), о нужных потребах, № 23 (XIX в.), об Осии царе, № 39 (1905 г.), на Преображение Христово (там же), о почитании книжном,, № 33 (XIX в.), о почитании родителей и попов, о играх, о умилении души, № 254 (XX в.), о прелести диаволе, № 23 (XIX в.), против чревобесия, пьянства и лености, № 27 (XIX в.), на Рождество Богородицы, № 181 (XIX в.), № 39 (1905 г.), на Рождество Христово, № 5 (XVIII в.), № 27 (XIX в.), № 34 (1894 г., перевод с греческого, 1651 г.), № 254 (XX в., против бесовских игрищ), к священникам, № 184 (XIX в.), на Успение, № 181 (XIX в.), о христианском житии, № 14, 33 (XIX в.), о явлении ангела господня в пустыне, № 23 (XIX в.).
Книги и выписки из книг: Апостола, № 15, 21, 305 (толкового), № 164 (XIX в.), Арифмологии, № 8 (XVIII в.), Барония, № 23,30 (XIX в.), Ветхого Завета, № 40 (1919 г.), Евангелие — тетр, лицевое, № 291 (ок. 1900 г.), из Евангелия, № 127, 165, 166 (XIX в.), № 45 (XX в.), Звезды пресветлой, № 19, 31 (XIX в.), Златоуста, № 10 (XVIII в.), № 24, 166 (XIX в.), Иконописного подлинника, № 51 ;(ХУШ в.), Катехизиса, № 48 (XVIII в.), № 24, 190 (XIX в.), № 40 (1919 г), Книги о вере, № 6 (XVIII в.), № 24 (XIX в.), № 34 (1894 г.), Кормчей, № 15, 33, 24, 164, 221 (XIX в.), № 34 (XIX в.), № 45 (XX в.), № 40 (1919 г.), «Лебедь», № 30 (XIX в.), Маргарита, № 165 (XIX в.), Никона Черногорца, № 40 (1919 г.), Номоканона, № 15, 33, 166, 221 (XIX в.), № 34 (1894 г.), Патерик скитский (в 320 главах), № 2 (XVII в.), из патериков: азбучного, №10 (XVIII в.), №34 (1894г.), лицевого,№ 257 (XVIII в.), скитского, № 34 (1894 г.), № 164, 231 (XIX в.), Потребника, № 33, 221 (XIX в.), № 40 (1919 г.), Поморских ответов, № 49 (XVIII в.), № 24 (XIX в.), Пролога, № 2, 24, 127, 164-166, 231 (XIX в.), Псалтыри, № 6 (XVIII в.), Пчелы, № 6 (XVIII в.), № 34, 164 (XIX в., выписки), из Старчества, № 50 (XVIII в.), № 24, 30, 34, 231 (XIX в.), № 40 (1919 г.), Стоглава, № 164 (XIX в.), Страстей Христовых, № 24 (XIX в.), Тропинка, № 231 (XIX в.), Щита веры, № 33 (XIX в.), Шестоднева, № 31 (XIX в.).
Тематические выписки из разных книг: о брадобритии, № 21 (XIX в.), № 268 (XX в.), о браках, № 24 (XIX в.), о бесноватых (с молитвами), № 18 (XIX в.), о грехах, родстве, церковном пении,№268 (XX в.), о еретиках, № 8 (XVIII в.), № 14, 20, 24 (из Иосифа Волоцкого) (XIX в.), о Илие и Епохе, № 12 (XVIII в.), об иконе Одигитрии, № 24 (XIX в.), о исповеди, № 8 (XVIII в.), о крестном знамении, № 21 (XIX в.), 254 (XX в.), о крещении, № 8, 11 (XVIII в.), № 24 (XIX в.), № 268 (XX в.), о милости, посте, перстосложении, об Алексее человеке божьем, о Страшном суде, № 165 (XIX в.), о написании имени Христа, № 12 (XVIII в.), о новоженах, № 221 (XIX в.), о Никоновых нововведениях, № 12 (XVIII в.), № 166 (XIX в.), о покаянии, № 8 (XVIII в.), № 165, 166, 221 (XIX в.), о последних временах, № 23 (XIX в.), о причастии, о вере, о мире, о любви, № 166 (XIX в.), о пьянстве, № 24 (XIX в.), о солдатах с орлами, № 187 (XX в.), о солнце, о памяти усопших, № 183 (XIX в.), о табаке, чае, кофее и самоварах, № 183 (XIX в.), 34 (1894 г.), № 187 (XX в.), о троице, о честном кресте, главе Адама, яйце, купине, иконах, спасовом образе, № 2 (XIX в.), о христианском житии, № 11 (XVIII в.), № 188 (XX в.), о церковных тайнах, № 8 (XVIII в.).
Жанры посланий и притч представлены в коллекции Заволоко следующими списками: послание Филофея старца к дьяку Мисюрю Мунехину, № 33 (XIX в., выписки), Нила Черноризца к Хариклею пресвитеру, № 15 (XIX в), № 40 (1919 г.), Игнатия Антиохийского, № 71 (XX в.); притчи: Варлаама о богатых, № 33 (XIX в.), о вечери, № 26 (XIX в.), о Лазаре, № 257 (XVIII в., лицевая).
Толкования: на Апокалипсис, № 12 (XVIII в.), Лестовки, № 23 (XIX в.), на Псалтырь, № 10 (XVIII в.), № 129 (XX в.), св. Софии, № 69 (XX в.), 71 правила Карфагенского собора, № 222 (XIX в.), чая, кофея, картофеля и табака, № 23 (XIX в.).
Стихи: об Адаме и Еве, № 37 (XX в.), об ангеле-хранителе, № 43 (1934 г.), о св. Антонищ № 38 (XX в^), «арабский», № 45 (XX в.), о блудном сыне, № 2 (XIX в.), о Богородице, № 2 (XIX в.), о Борисе и Глебе, № 2, 28 (XIX в.), о Варваре мученице, № 37 (XX в.), воспоминательный о смерти, № 2 (XIX в.), № 37 (XX в.), о временной жизни сей, № 43 (1934 г.), о втором пришествии, № 37 (XX в.), гора Афон, № 47 (XX в.), о Георгии храбром и царевне Лисафее Агапиевне, № 28 (XIX в.), о десяти заповедях, № 43 (1934 г.), о душе (там же), о душевном спасении, № 2 (XIX в.), Иоасафа царевича, № 37 (XX в.), Иосифа прекрасного, № 28 (XIX в.), «Как уныло запевает…», № 36 (1895), кафоликов, № 32 (XIX в.), о кончине века сего, № 32 (XIX в.), о Лазаре, № 163 (XIX в.), о матерной брани, № 32 (XIX в.), монашеский, № 32, 36 (XIX в.), № 43 (1934 г.), надгробные (на крюках), № 75 (XVII в.), в неделю цветную, № 32 (XIX в.), Николе, № 37 (XX в.), нищей братии, № 38 (XX в.), обличительное стихотворное послание некоему бывшему иноку «Посреди богонасажденных древес долго жившему…», № 34 (1826 г.), ответ Павлу Прусскому против самосводных браков, № 265 (XIX в.), о памяти смертного часа, № 37 (XX в.), о папе римском мужичка-дурачка Кирилушки, № 66 (XX в.), псалмов переложение, № 43, 47 (XX в.), печального странника, № 38 (XX в.), плачи — Адама, № 37 (XX в.), Богородицы при Распятии, № 28 (XIX в.), девиц по московской обители (там же), пустынника по обители в Москве, № 46 (XX в.), трех отроков, № 37 (XX в.), узника, № 28, 32 (XIX в.), № 43 (1934 г.), о потопе Ноя, № 32 (XIX в.), о прелести мира, № 43 (1934 г.), о пустыне, № 2 (XIX в.), № 37 (XX в., два варианта), о пьянице, № 43 (1934 г.), «разговор к честным отцам», № 42 (1930 г.), «разговор о чае чужестранца из китайского царства» (там же), о рае, № 2 (XIX в.), о расслабленном, № 37 (XX в.), «рифмы воспоминательны об Андрее Денисовиче», № 2 (XIX в.), на Рождество Христово, № 28, 32 (XIX в.), № 37, 43, 47 (XX в.), о Сионе, № 46 (XX в.), «О слабостях и невоздержании в последние времена», № 64 (XX в., сатира народная), о смертном часе, № 2 (XIX в.), № 37 (XX в.), о смирении, № 43 (1934 г.), о Содоме, № 46 (XX в,), странницы (там же), о Страшном суде, № 2 (XIX в.), № 38 (XX в.), о умилении души, № 2 (XIX в.), № 37 (XX в.), умиленный, № 37 (XX в.), о умолении матерью своего дитяти, № 38, 46 (XX в.), «Утреннее размышление о божием величестве» М. В. Ломоносова, № 43 (1934 г.), о юности, № 28 (XIX в.), акростих «Гавриила Скачкова», № 63 (XX в.). Кроме того, более 30 стихов традиционного содержания находятся в Сборнике № 10 (XVIII в.).
Значительное место в коллекции И. Н. Заволоко занимают произведения старообрядческой литературы. Среди них сочинения писателей XVII—XX вв.: Аввакума протопопа, 5-я челобитная, № 245 (XIX в.), Авраамия инока послание к боярыне Морозовой, № 231 (XIX в.), челобитная царю, № 5 (XX в.), Алексея Самойловича «Меч духовный», № 53 (XVIII в.), Власова М. А. «Кое-что относящееся к общему молению и браку» (выписки на тему сочинений Я. С. Порозова), № 68 (XX в.), Гнусина С. Пандекты, ч. IV, № 57 (XIX в.), Денисова Андрея — о вере (выписки), № 33 (XIX в.), о Гоге и Магоге, № 16 (XIX в.), житие Мемнона Холмогорского, № 246 (XIX в.), послание к Леонтию Федосеевичу о священстве 1730 г., № 7 (XVIII в.), Слово на зачало 106 от Матфея, № 16 (XIX в.), толкования I послания апостола Павла к коринфянам (там же), Денисова Семена «Виноград Российский», № 12 (XVIII в.), № 246 (XIX в.), жизнеописание его, № 12 (XVIII в.), разные выписки, № 4 (XVIII в.), о форме всякого креста, № 52 (XVIII в.), Евстратия Федосеевича послание от 1753 г., № 11 (XVIII в.), Зайцевского А. Я. ответы на вопросы московских купцов 1786 г., № 247 (XIX в.), Ивана Алексеева ответ о тайне покаяния, № 16 (XIX в.), Комиссарова А. А. «Книга — вечная правда» 1895 г., № 70 (XX в.), Надеждина А. А. осмидневная беседа 1888 г., № 61 (XX в.), Спиридона Иванова о раздоре в крещении, № 7 (XVIII в.), № 14 (XIX в.), выписки из его сочинений, № 4 (XVIII в.), Спиридона Потемкина слово о нечувственных христианах, № 9 (XVIII в.), Федора дьякона повести об Аввакуме, Лазаре и Епифании, № 34 (1894 г., отрывок), о Петре и Евдокиме (там же), послания об антихристовой прелести, № 2, (XIX в.), к некоему брату Иоанну, № 9, 12 (XVIII в.), № 20 (XIX в.), Федора Кузьмина (ветковского), выписки, № 4 (XVIII в.), Феоктиста инока соловецкого сказание о царстве Антихриста, № 21 (XIX в.), Шевелина Ивана (Наседки) Предание остальцев благочестия и два послания, № 253 (XX в.).
Старообрядческие полемические и апологетические сочинения: «Апология о тайне брака», № 63 (XX в.), об Антихристе, № 12 (XVIII в., поморское), № 241 (XIX в.), о беглопоповцах, № 284 (XIX в.), о брадобритии, № 24 (XIX в.), о браках, № 11 (XVIII в.), № 67, 224. (XX в.), против браков, № 248, 253 (XX в., федосеевские), о бегствующем иерействе, № 7 (XVIII в.), выговские послания— № 7 (XVIII в.), № 14 (XIX в.) (о благоверии и крещении), № 10, 11 (XVIII в., соборное), выписки по истории белокриницкой иерархии, № 263 (XIX в.), «главы к строящим исполнение церковное», 1760 г., № 7 (XVIII в.), о грехе прелюбодеяния, № 15 (XIX в.), «Допрос о вере оренбургского купца 1667 года» (так!),№ 29 (XIXв.), о евхаристии, 1756 г., № 8 (XVIII в.), о именах церкви, № 17 (XIX в.), о имени «сопротивном», № 9 (XVIII в.), «Исповедание древнего благочестивого предания», № 12 (XVIII в.), история «откуда и како прияша власть простии крестити». № 288 (XIX в.), «Книга, глаголемая Возбранник на дерзающих себя умерщвлять», № 16 (XIX в.), Книга об обетах и приказаниях божиих, 1757 г., № 7 (XVIII в.), Кормишина Г. К. «Беседы и прения с Л. Ф. Пичугиным», № 292 (1910 г.), о крестном знамении, № 5 (XVIII в.), о молитвах очистительных, № 7 (XVIII в.), о кресте и крестном знамении, № 9 (XVIII в.), о надписании животворящего креста, № 179 (XIX в.), о Новосибирских староверах, № 44 (1936 г.?), Обличение нынешнему роду (стародубское послание 1836 г.), № 25 (XIX в.), 253 (XX в.), обличения Артамона Анкудиновича (двинского наставника), 1837 г., № 253, о осквернении и очищении дома, № 7 (XVIII в.); послания — братии о скандале на Преображенском кладбище со «старцем» Филаретом, № 285 (ок. 1883 г.), московских старообрядцев к федосеевцам, № 11 (XVIII в.), некоего против православия, 1708 г., № 21 (XVIII в.), об объединении разных согласий и раздорах, № 183, 284 (XIX в.), поповцев 3. Нижникова и Е. Ф. Табакова (Витебск) в Латгалию об объединении, № 295, 296 (1910-е гг.), в Пруссию иноку Ионе, 1861 г., № 253 (XX в.), постановления соборов в Москве, Польше и Прибалтике, № 25 (XIX в.); поучение о святителевой мантии, № 9 (XVIII в.), против попов, иерейства и священства, № 7, 11 (XVIII в.), прошения — митавских староверов, № 165 (XIX в.), сибирских (от 1821 г.), № 17 (XIX в.), Разговор проповедника с юношей, № 55 (XIX в.), Разговор священника Иоанна со старообрядцем Симеоном, № 14 (XIX в.), о «Разностиях» в церкви (там же), о тайнах крещения, № 7 (XVIII в.), и покаяния — там же и № 15 (XIX в.), «Устав польский» 1751 г., № 287 (XIX в.), федосеевские статьи 1809 г. против браков (там же), «Чин оглашения» Преображенского кладбища, XVIII в. (там же), духовный гимн (слова О. М. Андреева, муз К. Н. Галковского), № 194 (XX в.), сочинения о церковных реформах от царя Алексея Михайловича до Николая I, № 34 (1894 г.), речь Екатерины II на конференции Сената и Синода 15 IX 1763 о раскольниках, № 283 (XIX в.), выписки В. Т. Красникова из сочинений Г. Есипова, № 35 (1895).
Из числа старообрядческих рукописей выделяется уникальный сборник соборных постановлений Выголексинского общежительства с духовными завещаниями Семена Денисова, Петра Прокопьева, Даниила Викулова и других в автографах, за 10—40-е годы XVIII в. (№ 3). Сборник, без сомнения, представляет собой значительный фрагмент выговского архива и является ценнейшим памятником раннего старообрядчества. В настоящее время часть рукописи готовится к публикации. Привожу содержание сборника полностью:
Соборное постановление о посте; постановление 1719 г. о принятии к исповеди за руками выговских деятелей, постановление 1702 г. об избрании Андрея Денисова настоятелем; Послание старца Пафнутия в Лексинскую обитель о благочестии; Правила 1713 г. для Лексинской обители; Устав 1719 г. Лексинскому общежительству; Правила 1718 г. для Лексинской обители; Устав для Лексинской обители; Послание Данилы Викулова к инокине Пелагее с сестрами о неполезных дружбах; Чин для общежительной братии, случившейся в отхожих промыслах; Правила для братии общежительств; «Роспись о управлении ко спасению благочестия»; Духовная Петра Прокопьева; Завещание Петра Прокопьева; Предсмертное обращение Петра Прокопьева к Семену Денисову; Надписание прощательное Данилы Викулова; Прощальное слово, сказанное Данилой Викуловым за 5 часов «до исхода жития»; Установление лексинским жительницам о «схождении со своими родственницами беседовати»; Установления «братиям на службах дальних и ближних бывающим»; Послание о запрещении самовольных занятий на отхожих службах; Соборное уставление 1726 г. за руками выговских деятелей; Выписки из Номоканона, Кормчей и т. п., регламентирующие правила иноческой жизни, уставные статьи 1732 г. за руками выговских деятелей; Постановление о исповеди; статьи уставные 1731 г. за руками выговских деятелей; «Предел постницам на службах»; «Предел на рыбных ловитвах»; Определение «како на Паже, Пурнозере и в прочих службах пребывати»; Уставления келарю; Приговор о казначейской службе; Обязанности наряднику; «Городничего службы»; Правила пребывающим «на пристанищах»; Об одеждах; Правила псалтырникам; Наставления надзирательнице; Повеление быть надзирательницей в грамотной келии Наумовне; общесоборное определение о пищах; «Предел братии на промыслах морских»; «Предел… пребывающим на Печерстем промысле»; Общесоборное определение на Чаженскую службу; «Определение братии, сущим на Чаженге: Архипу, Михаилу и Никите»; Наставление «постницам» на Чаженге; «Общесоветное установление, како и кому о вверенных попечение имети»; Установление в Каргополь на Чаженскую службу старице Фотинии и сестрам; Соборное решение о соблюдении постановлений в Выговской пустыни; «Объявление о благочинии пустынном»; Постановления 1725 г. о новоженах; Постановление о любодеянии и пьянстве; Послание скитянам о прилежной молитве богу и сочинении ответов Неофиту; Постановление 1742 г. о записи в двойной оклад; Соборное определение о молении за императора Петра II; Перечень посланий Мануилу Петрову о всенощных бдениях в скитах; Соборное определение о наложении поста по случаю требования рекрутов, установления таможни и кабака; Послание 1731 г. о молении по случаю голода; «О образех честного и животворящего креста»; Послание 1731 г. десятскому Боровского скита о посте и поклонах; Послание в Шелтопорожский скит Илие Ефимовичу о записи в двойной оклад; «1737 года октября 14 старец Филипп перед собором духовного правления отрицался…».
Особо следует выделить в коллекции И. Н. Заволоко материалы, относящиеся к истории русского старожильческого населения в Прибалтике и к истории местной рукописно-книжной традиции. Латгальские материалы: Барковский собор 1831 г., изложение, № 22 (XIX в.), № 253 (XX в.), Власова М. А., двинского наставника, сборники сочинений и выписок, № 68, 274, 300 (XX в.), Корзинина Т. С., сборник 1919 г., № 40, 291 (Евангелие — тетр, лицевое, ок. 1900 г.), Грязнова В. С. сочинение «О браках и степенях родства» и письмо к Г. Е. Фролову, № 299 (1929 г.), Гущенко И. Ф., сборники сочинений и выписок, № 195, 252, 278 (XX в.), постановления соборов, № 25 (XIX в.), № 219 (1872 г.), 284 (1884 г., Режица), № 293 (XX в.), письма к И. Н. Заволоко Лудзенского наставника В. С. Гудкова, № 279 (XX в.), Карпушенко П. И., портрет, № 198. Мастюлина И. С., латгальского наставника, «Рассуждение о последних днях», № 251 (XX в.), Мидунецкого А. Г., двинского поэта-самоучки, стихи, № 192 (1933 г.), Михайлова Д. Д., двинского наставника, сборники, выписки, сочинения и письма, № 70—73, 158, 197, 256 (XX в.), Суворовых Е. С. и М. Е. послания, письма и выписки, № 283, 284, 293 (XIX—XX вв.), история двинского старообрядчества, № 197 (XX в.), письма XIX—XX в. обрядового и бытового содержания, № 290, Тарутинского А. С. послание и выписки против лихоимания и процентной добычи, № 286 (XIX в.), Причудские материалы: сборники, сочинения, переписка и другие рукописи известного причудского наставника и иконописца Г. Е. Фролова, № 99, 102, 153, 189, 206, 207, 253, 270-272, 291 (за 1880-е—1929 гг.), рукописи К. А. Малышева (д. Кикита), № 154, 275 (XX в.), архивные документы и выписки по Причудью, № 155, 174, 212, 306, 308, в том числе редкие фотографии, № 12, 273, 299 (снимки и описание «нарочной» свадьбы д. Городищи Печерского р-на, 1933 г.), переписка И. Н. Заволоко с Е. В. Рихтер (Таллин) об этнографии Причудья и др., № 205.
Есть в коллекции документы о рижских старообрядцах: о Гребенщиковской общине, № 236, 260, 261, 266 (XIX в.), Материалы секретного совещательного комитета по делам раскольников, из канцелярии рижского архиепископа Платона и тому подобные архивные бумаги, № 141 — 143, 145—150 (XIX—XX вв.), сочинения рижских старообрядцев Алексеева П. И. и Ваконьи И. У., № 42, 199, 301 (XX в.). Старообрядцы Прибалтийского края упомянуты также в документах XIX в.: № 144, 171, 175, 235, 236, 298, 302.
Русская средневековая наука представлена в коллекции И. Н. Заволоко следующими рукописями: выписки по философии, грамматике, риторике, № 12 (XVIII в.), № 15, 18 (XIX в.), лечебник псковича А. А. Богданова, 1871 г., № 264, описание Иерусалима, № 2 (XIX в.), исторические выписки: № 167 (XVIII в., о Скифии из Хронографа), по истории раскола, № 25, 33 (XIX в.), № 223 (о прибалтийских общинах), хронологические таблицы, изложения ветхозаветных событий и родословцы) № 7, 9 (XVIII в.), «Хронограф, сиречь летописец курляндско-литовский» (Дягучаевская, или Дегуцкая, летопись), № 73 (XX в., копия).
Певческие рукописи: Азбука, № 92 (XIX в.), № 255 (XX в.), Горовосходный холм, № 289 (XIX в.), Ирмологий, № 76 (XVII в.), № 87, 90, 91 (XIX в.), ирмосы Пещного действа, № 256 (XX в.), каноны на 12-е праздники, № 95 (XX в.), Обиходник, № 243 (XVIII в.), Октоих, № 108 (XV в., без крюков), № 75 (XVII в., с русскими величаниями), № 83, 84 (лицевые), № 229 (XIX в.), Праздники, № 78 (XVIII в.), № 86, 89, 230 (XIX в.), Псалом 136, № 104 (XX в.), Псалмы дням недели, № 97 (XX в.), Сборник учебно-теоретических и полемических сочинений о знаменном пении, № 94 (XX в.), Сборник певчий, № 79 (XVIII в.), № 93 (XIX в.), Стихирарь месячный, № 77, 80, 81 (XVIIIв.), № 85 (1819 г., лексинского письма), стихира: Богородице, № 138 (XX в.), Мелании Римляныни, № 184 (XIX в.), надгробная И. А. Ковылину, № 102 (XX в.), Успению, № 269 (XX в.); стихи на крюках: об Исаином пророчестве, № 103 (XX в.), о пьянице, глас 6, № 100, о смерти, № 101 (оба 1892 г.); Триодь постная и цветная, № 88 (XIX в.), № 96 (XX в.).
Богослужебные рукописи: акафисты, каноны и службы — Алексею человеку божию, № 1 (1672 г.), ангелу-хранителю, № 119(XIX в.), Богородице, № 138 (XX в.), «Великий», № 6 (XVIII в.), за единоумершего, № 258 (XVIII в.), № 191 (XX в.), Екатерине великомученице, № 1 (1672 г.), Иоанну Крестителю, № 6 (XVIII в.), № 126 (XIX в.), Иоанну Лествичнику, № 120 ( XIX в.), кресту, № 2 (XIX в.), в Лазареву субботу, № 16 (XIX в.), Марии Египетской, № 1 (1672 г.), Моисею пророку, № 126 (XIX в.), Николе, № 6, 75 (XVIII в.), № 232 (1864 г.), Одигитрии (там же), Пасхе, № 109 (XVII в.), № 118 (XIXв.), Петру и Павлу, № 10 (XVIII в.), покаянный Андрея Критского и Федора Студита, № 24 (XIX в.), № 189 (XX в.), Покрову и Успению, № 126 (XIX в.), на разлучение души от тела, № 119 (XIX в.), Троице, № 232 (1864 г.), Хионии мученице, № 118 (XIX в.), в цветную неделю, № 16 (XIX в.), часам господским, № 112 (XIX в.), каноны, тропари, кондаки, икосы, воскресны, величания и т. п., № 109 (XVII в.), № 115, 116, 121-123, 173 (XIX в.), № 232 (1864 г.), № 45, 131, 140 (XX в.), молитвы: кресту, № 234 (XIX в.), заклинательные и запрещальные, № 302 (XX в.), пасхалии, № 113 (XIX в.), № 45 (XX в.), Псалтырь с восследованием, № 233 (1867 г.), Святцы, № 110 (XVIII в.), № 111, 262 (XIX в.), № 130, 132 (XX в.), Статьи вселенские, № 124 (XIX в.), стихиры великопостные и триодные, № 136 (XX в.), указатель служб полиелеосных, № 176 (1862 г.).
25 Тр. отд. древнерусской литературы, т. XXXIV
Канонические произведения, уставы: Алексея Комнина об обручении и бракосочетании, № 220 (XIX в.), Арсения Уральского, № 72 (1945 г.), выговский, № 16 (XIX в.), № 139 (XX в., о пении), о звоне праздничном, № 16 (XIX в.), о крещении, № 137 (XX в.), трапезный Иосифа Волоцкого, № 19 (XIX в.), о постах, № 20 (XIX в.), священническая присяга патриарха Иоакима, № 178 (XIX в.), чины: бракосочетания, № 224 (XX в., беспоповский), венчания, № 185′ (XIX в.), иконостасный, № 242 (XVIII в.), № 51 (XVIII в.’, правила иконописания), исповеди, № 10 (XVIII в.), № 135 (XX в.), «како самому себя причастити», № 117 (XIX в.), погребения, № 6 (XVIII в.), № 16, 128 (XIX в.), № 45, 133 (XX в.), принятия «раскольников», № 14 (XIX в.), «правила о волхвующих» — против языческих примет, суеверий и обрядов, № 304 (1826 г.). Эсхатология: о знамениях Антихриста, № 8, 12 (XVIII в.), № 15, 33, 60 (XIX в.), сказание о нем, № 293 (XIX в.), пророчества — Исаино, № 2 (XIX в.), Мефодия Патарского, № 24 (XIX в.). Синодики: Иова, № 16 (XIX в.), семей Козловских, Лежневых, Сопляковских, Тархановых, № 10 (XVIII в.), общий помянник, № 186 (XIX в.). Скитское покаяние, № 170 (XVIII в.), № 119 (XIX в.).
Лицевые рукописи: изображения 4 евангелистов из Евангелия, копия с изд. — М., 1651, № 291 (ок. 1900 г.), Иоанна Дамаскина, № 83, 84 (1818 г.), птицы Сирин, № 85, 177 (XIX в.), царя Давида, № 238 (1867 г.), исцеление расслабленного, № 249 (XIX в., настенный лист), рисунок И. Ф. Гущенко к легенде об оживленной курице, № 254 (XX в.), лицевой сборник, № 257 (XVIII в.), содержащий 235 оригинальных рисунков в красках.
Орнаментация рукописей представлена в коллекции И. Н. Заволоко продукцией в основном поморской школы книгописания — характерные для ее стиля рамки-заставки в красках и золоте, инициалы, вязь и т. п. содержатся в рукописях: № 53, 57, 82 (22 титульных листа), № 84 и 85 (Лексинского письма 1818 и 1819 гг.), № 106, 229, 230, 240, 241, 243, 245, 246 (XVIII-XX вв.).
Орнаменты прибалтийских и других писцов: № 5, 14, 22, 40, 48, 49, 63, 65, 77, 78, 81, 86-88, 96, 97, 100, 101, 104, 167, 186, 231, 233, 269, 278 (XVII—XX вв.). Кроме того, имеются изображения перстосложений и крестов, № 9 (XVIII в.), № 49, 179, 228 (прориси литья), № 234 (XIX в.), № 252 (1909 г., лабиринт строк басни о Троице). Настенные листы XIX—XX вв.: № 100, 101, 104, 106, 107, 250 (литография Сытина «Бракоборы», 1884 г.), 308 (1911 г. издания). Книжные гравюры: № 168 (XVII—XVIII вв., в том числе С. Ушакова), № 259 (XIX в., с изображением российских гербов и панорамы Петербурга). Приветственные адреса со стилизованными рамками: № 157, 276 (XX в.). В коллекции имеются материалы, собранные И. Н. Заволоко по иконографии Софии Премудрости Божией, № 214, боярыни Морозовой, № 213, альбом современных иконописцев «изографов» с цветными репродукциями работ П. М. Софронова, К. А. Павлова, С. Т. Быкодорова, И. И. Михайлова, Н. Яшвиль, № 218, альбом снимков поморского орнамента, № 240, прориси книжных украшений, № 193. Уникально собрание И. Н. Заволоко прорисей икон XVIII- XX вв., № 12, 105, 169, 244. Отмечу Иконописный подлинник № 242 в списке XVII в.
Среди многочисленных приписок, записей и помет на рукописях коллекции следует выделить владельческую помету писателя князя Ивана Андреевича Хворостинина, № 167 (XVII в.), запись XVII в. некоего Леонтия Андреевича с просьбой поминать убиенных сродников (тамже), вдового попа Никифора Тимофеева сына Пономарева Пермитина, № 109 (XVII в.), некоего Ивана Посникова, № 242 (1705 г.) и мн. др.
Наконец, важную часть коллекции составляют документы личного архива, отражающие многогранные интересы и разностороннюю деятельность И. Н. Заволоко. Это прежде всего его переписка: с Ф. А. Калининым (об иконописании и реставрации, о поморском литье, об археографических поисках, о посещении Выга и Лексы в 1909 г. и т. д.), № 160, 203, 214, 226—228, 281, с В. И. Малышевым, № 203, 227, 281 (письма касаются актуальных вопросов археографической практики, истории прибалтийских старообрядцев и пр.), Д. Д. Михайловым, А. Лашковым, М. А. Власовым, Е. В. Рихтер, Г. Е. Фроловым, П. М. Софроновым, А. И. Мазуниным, В. В. Лукьяновым, А. А. Невским, А. Л. Мурниковым, Ю. К. Бегуновым, С. С. Гейченко, А. Ф. Белоусовым, Н. Н. Розовым, А. С. Мыльниковым, Е. Л. Немировским и многими другими деятелями отечественной и советской культуры, № 158, 159, 203, 205— 207, 213, 227, 237, 281.
В архиве собирателя находятся материалы по истории рижского кружка Ревнителей старины, № 156, 211, 276, 277, 308, статьи и заметки И. Н. Заволоко, № 156 (по знаменному распеву, иконописи, о древнерусском зодчестве, истории письменности и т. д.), № 162 (о находке Пустозерского сборника автографов Аввакума и Епифания), № 200, 201, 307 (о Максиме Греке, о Житии Аввакума и др.), № 214 (на тему «София Премудрость Божия»), № 225 (о поморских рукописях), № 215 (филигранология), № 216, 277 (древнерусское узорное шитье), уже упомянутый собранный им альбом «Современные изографы», № 218, уникальные материалы об иконописце из Причудья Пимене Софронове, № 161, 217, 282, материалы о Новосибирской старообрядческой секте «III-й Израиль», № 208, 209, квалифицированные описания собраний древних книг И. В. Дорофеева, М. А. Власова, Д. Н. Першина, хранящихся в книжнице Гребенщиковской общины, № 280,[4] «Травник», составленный в 1947 г. в пос. Няндома, № 303 и мн. др.
К марту 1978 г. коллекция И. Н. Заволоко насчитывала 303 единицы, и нет сомнения, что она еще будет пополняться. Материалы ее говорят сами за себя. Рукописи, найденные Иваном Никифоровичем и подаренные в Древлехранилище Пушкинского Дома, навсегда оставят имя его в истории отечественной науки.
[1] Ныне рукопись хранится в Древлехранилище Пушкинского Дома, оп. 24, № 26. См.: В. И. Малышев. О втором списке «Слова о погибели Рускыя земли» (история открытия). — Slavia, Praha, 1959, roc. XXVIII, ses. I, s. 69—72.
[2] ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 24, № 43. Об истории находки см. статью И. Н. Заволоко в изд.: Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975, с. X—XIV.
[3] О научной и изыскательской деятельности И. Н. Заволоко см. статьи: Ju. K. Begunov. Ivan Nikiforovic Zavoloko. — Die Welt der Slaven. Jahr. XIV, Heft I. Wiesbaden, 1969, 8. 103—112; В. И. Малышев. Иван Никифорович Заволоко. (К 75-летию со дня рождения). — ТОДРЛ, т. XXVII. Л., 1973, с. 461—462.
[4] См.: И. Н. Заволоко. Собрание рукописей и старопечатных книг Д. Н. Першина и И. В. Дорофеева в Рижской гребенщиковской общине. — ТОДРЛ, т. XVI. М.-Л., 1960, с. 567—569.
Г. В. Маркелов. Из истории собрания И. Н. Заволоко
Об Иване Никифоровиче Заволоко, коллекционере древнерусских рукописей, превосходном знатоке старинной книжности, первооткрывателе многих уникальных памятников литературы написано немало признательных слов.[1] С 1974 г. он начал передавать в Древлехранилище Пушкинского Дома свою коллекцию древнерусских рукописей. Ныне его фонд насчитывает свыше 330 рукописей XV—XX вв.[2] Его коллекция продолжает расти за счет ежегодных новых поступлений. Почти все рукописи переданы И. Н. Заволоко безвозмездно.
Несомненный интерес представляет история формирования собрания Заволоко. Для изучения его важнейшим источником служит сохранившаяся переписка собирателя с В. И. Малышевым.
В архиве Владимира Ивановича Малышева в Рукописном отделе Пушкинского Дома среди тысяч других хранится около 150 писем Ивана Никифоровича Заволоко с 1958 по 1975 г.[3] В личном фонде коллекции Заволоко в Древлехранилище имеется несколько десятков писем к нему В. И. Малышева [4] за те же годы. В переписке, фактически в истории взаимоотношений этих людей, нашла свое документальное отражение подвижническая научно-собирательская деятельность И. Н. Заволоко.
Как собиратель он стал известен В. И. Малышеву еще в 1945 г., сразу же после освобождения Прибалтики. В. И. Малышев находился тогда в служебной воинской командировке в Риге. Воспользовавшись случаем, он обследовал в поисках древнерусской старины местные архивохранилища, познакомился с рижскими собирателями. Позднее В. И. Малышев писал: «Осталось неосмотренным в Риге собрание славяно-русских рукописей и книг И. Н. Заволоко. В этом собрании, как мне передавали, имеются рукописи XV в. и сборники с литературными материалами».[5]
Речь идет о первой коллекции И. Н. Заволоко, которую он собирал вплоть до 1940 г. Эта первая коллекция пропала. Десятки особенно любимых Заволоко лицевых рукописей, письма к нему А. М. Ремизова, Н. К. Рериха и многое другое разошлось в отсутствие собирателя в тяжелые военные и послевоенные годы, когда родственники распродавали ценнейшие рукописи часто случайным людям. Только 13 рукописей попали в 1949 г. в БАН.[6]
О своей поездке в 1945 г. в Ригу В. И. Малышев вспоминал, что «обстановка для археографической работы была мало подходящей, да и времени было очень мало».[7] Заволоко тогда в Риге не жил. Тем не менее Малышев познакомился с матерью и сестрой собирателя, узнал у них почтовый адрес Заволоко и переправил ему две посылки. Эпизод этот для обоих не остался случайным.
Спустя 12 лет поводом для переписки послужила история, связанная с открытием второго списка «Слова о погибели земли Русской», который был обнаружен В. И. Малышевым среди рукописей Рижской старообрядческой гребенщиковской общины в феврале 1946 г. и опубликован им в 1947 г.[8] В. И. Малышев не знал тогда о том, что еще в 1933 г. этот же список «Слова» нашел и определил И. Н. Заволоко и переслал фотокопию рукописи в Париж М. Горлину для подготовки к публикации. Публикация эта была осуществлена только в 1947 г. уже после кончины М. Горлина.[9] Стремясь восстановить справедливость в возникшем недоразумении о приоритете Заволоко как первооткрывателя «Слова о погибели», В. И. Малышев обратился с письмом к Ивану Никифоровичу. В ответном письме Заволоко подробно изложил историю открытия им памятника, заметив при этом: «Интересы науки для меня были на первом месте. Не удается мне — пусть издают другие».[10] На основании полученных сведений В. И. Малышев пишет статью об истории находки «Слова».[11] По поводу этой статьи Заволоко писал Малышеву: «Для меня важно только то, что науке стало известным про Слово о погибели. Самолюбия у меня нет. Если вы находите нужным. . . печатать эту статью в интересах науки — тогда печатайте. . .».[12]
Этот эпизод сблизил ученого и собирателя на основе в высшей степени свойственных обоим научной принципиальности и подлинного бескорыстия.
С апреля 1958 г. начинается интенсивная переписка. Заволоко регулярно информирует Малышева обо всех своих делах, планах, наблюдениях. В. И. Малышев исключительно тепло и дружески отвечает. Это взаимное доверие сохраняется на все 18 лет их дружбы. Перед возвращением в Ригу, Заволоко писал: «Глубокоуважаемый Владимир Иванович! Сердечно благодарю Вас за Ваше письмо! За ценные справки, которые мне помогут в будущем. . . Мама мне написала, что продала несколько книг из моей библиотеки. Сделала ошибку. . . Продала ТРИ рукописи из тех, что я разыскал в Карпатских горах. В Мукачево я узнал, что в дни Ивана Грозного в районе поселился русский воевода со своей дружиной. За рубеж выехали и священники с книгами. Немало обошел я карпаторусских храмов, пока на колокольне одного храма среди разных вещей я нашел 8 рукописей. Состояние их было плачевное. Следы сырости, птичьего помета, иные без переплетов. Водяные знаки подтвердили, что рукописи древние. . . В Восточной Пруссии я нашел следы старообрядческой типографии 60-х гг. прошлого столетия. Нашел и издания зарубежных старообрядцев.[13] В мае месяце предполагаю выезжать из Северного. Сейчас оформляю пенсию. Буду счастлив заняться научной работой. Буду рад, если наше знакомство продолжится. Спасибо за приглашение. В случае Вашего приезда в Ригу, будете моим дорогим гостем».[14]
Возвращаясь домой, Заволоко воспользовался полученными от Малышева рекомендациями п посетил Москву для занятий в архивах. Здесь он начинает поискп рукописей. В октябре 1958 г. Заволоко участвует в Московском съезде славистов. «Самое главное для меня, — сообщал он Малышеву, — это то, что я познакомился со многими полезными для будущих работ людьми. Установил контакт с руководителями архивов и музеев. . . Поэтому я искренне благодарю Вас за то, что при Вашем содействии побывал на съезде славистов, получил, так сказать, зарядку на будущее».[15]
В Риге Заволоко хотел было заняться медициной. Однако В. II. Малышев, зная огромный авторитет Заволоко у старообрядцев Прибалтики, убедил его вернуться к собиранию древнерусских рукописей. В октябре 1958 г. Заволоко извещает Малышева о том, что он «написал знакомым на побережье Чудского озера, чтобы разузнали о хранителях древнпх книг и рукописей».[16] А спустя месяц в Причудье направилась первая археографическая экспедиция (ИРЛИ), доставившая в Пушкинский Дом 31 рукопись XV—XX вв.[17] Экспедиция оказалась успешной благодаря рекомендациям и авторитету Заволоко. В это же время он приступает к собиранию новой своей коллекции, которая быстро пополняется. В. И. Малышев привлекает его к сотрудничеству в ТОДРЛ и поручает ему написать о рукописях Гребенщиковской общины. Статья, отредактированная В. И. Малышевым, была напечатана в 1960 г.[18]
В Риге Заволоко начинает одновременно работать над несколькими научными темами: творчество протопопа Аввакума, иконография Софии — премудрости божией, история старообрядчества в Прибалтике, иллюстрация и орнаментика рукописей и др. Он часто приезжает в Ленинград, участвует в заседаниях Сектора древнерусской литературы, в конференциях по проблемам русской медиевистики. Заволоко выполняет просьбы В. И. Малышева: собирает для него материал об изданиях Аввакума в Прибалтике, о пребывании в Риге Лескова, о некогда приписанном к Рижскому порту судне «Протопоп Аввакум». К этому же временп относятся его первые поездки в Латгалию и Причудье за рукописями. Обо всем этом он пишет подробно Малышеву. В 1961 г. Пушкинский Дом приглашает Заволоко принять участие в археографической экспедиции в Эстонию. Свыше 40 рукописей XVI—XX вв., найденных тогда при содействии Заволоко, поступили в Причудское собрание Древлехранилища ИРЛИ.[19] В том же году Заволоко передает в Пушкинский Дом прекрасно орнаментированный Апостол XVI в.[20]
С 1965 г. и по настоящее время И. Н. Заволоко участвует в издании «Старообрядческого календаря». При его участии облик издания заметно преображается. Появляются ежегодные статьи-очерки историко-культурного значения, приуроченные к памятным датам. Заволоко публикует очерки о Выговском и Лексинском общежительствах, о Кирилле-Константине, об Андрее Денисове, о Стоглавом соборе, о Поморских ответах, о Соловецком монастыре, о боярыне Морозовой, об Изборнике 1076 г., о первопечатнике Иване Федорове и мн. др. Все очерки основаны на новейших исторических и филологических исследованиях. Нередко Заволоко использовал рукописные материалы Древлехранилища Пушкинского Дома, и в этом ему непосредственную помощь всегда оказывал В. И. Малышев. Не прекращает Заволоко и собирание древнерусской книжности. Во второй половине 60-х гг. ему удается найти наиболее ценные рукописи, значительно пополнить свою коллекцию. Расширилась география его археографических разысканий: он посещает хранителей древних книг в районе Новосибирска, Москвы, Серпухова и других городов.
В ноябре 1967 г. он пишет Владимиру Ивановичу: «Спешу сообщить Вам приятную новость. Последние 2 года были для меня весьма удачными. В результате моих поездок. . . у меня собралось свыше 40 рукописей. Есть довольно редкие: Октай XV в., Лицевое поморское Евангелие, Поморский сборник с автографами всех выдающихся деятелей Выгореции. Но самое главное это то, что я нашел автограф Жития Аввакума, еще до сих пор неизвестный науке, редакцию В! Не список — а автограф. Смотрите приложенные при письме мои фотоснимки. . . Я готов сделать у Вас соответствующий доклад — изложение истории находки и краткое мое заключение об особенностях найденной рукописи. . . Пока о ней знают только мои близкие знакомые. Несмотря на предложение приобрести рукопись для Гребенщиковской общины, я решил твердо — рукопись должна послужить науке. Я очень рад тому обстоятельству, что судьба улыбнулась мне. Не тщеславие говорит во мне. Я рад, что сделаю свой вклад в науку. И счастье и смысл моей жизни в чтении и работе с рукописями».[21] Как явствует из письма, Заволоко сразу же решил предоставить Пустозерский сборник в распоряжение ученых. В. И. Малышев ответил Заволоко: «Глубокоуважаемый Иван Никифорович! Поздравляю! Это действительно находка первой величины и сохранит Ваше имя в авва- кумоведении навсегда. Конечно, мы с большим интересом послушаем сообщение. Я даже прошу Вас сделать это именно у нас, в секторе. Кроме самого автографа, что уже событие, выясните, какие новые произведения или отрывки или строки (куски) есть в рукописи. Это тоже очень важно. . . Лично я готов Вам оказать всякую помощь в выяснении этого. . . Что же касается почерка, то принадлежность его Аввакуму видна сразу, какая бы там ни была бумага. Это автограф. До сообщения Вы не говорите о нем. . . Это рукопись очень и очень дорогая, и мы выпросим на нее у Президиума Ак. наук СССР специальную сумму. Он даст нам. Статью Вашу большую (с подробным описанием сборника) тоже напечатаем в Трудах. . . Может быть, стоит Вам приехать на несколько дней в Ленинград? Я ведь теперь живу один в двухкомнатной квартире, вся литература по Аввакуму у меня есть под рукой. Подумайте и позвоните или же напишите. Поговорим обо всем тогда».[22] Заволоко писал в ответ на это письмо Малышеву: «Ваше письмо получил. Большое спасибо за выраженное Вами желание помочь мне. Пока о рукописи знаете только Вы. Даже Ф. А. Калинину [23] я еще ничего не писал, т. к. готовлю для него сюрприз. . . Ваша просьба — предложение, чтобы автограф Жития Аввакума попал в конце концов в книгохранилище Пушкинского Дома, я полагаю, будет удовлетворена».[24] Заволоко скрупулезно исследовал новонай- денную рукопись, подготовил доклад о сборнике для Сектора древнерусской литературы ИРЛИ. «Научную обработку в дальнейшем предоставлю, конечно, научным работникам, имею в виду Вас, поскольку тема Аввакума — ваша специальность. . . Я рад сознавать себя рядовым работником (собирателем старины) в армии научных деятелей. Счастлив, что судьбе было угодно выдвинуть меня на передовые позиции», — писал Заволоко Малышеву.[25] Малышев в последующих письмах рекомендует Заволоко: «Автографы Аввакума и Епифанпя определены. Тратить на это время не стоит. Ваша основная задача — указать, что нового вносят автографы в известные тексты. Все отличия выпишите и сгруппируйте»; [26] «Доклад Ваш назначен на 20-е марта в 14 часов. Приезжайте 18 марта. Я 18 марта, утром, вернусь из Суздаля и Владимира. Перед выездом напишите, что Вам надо приготовить».[27] И в следующем письме: «Приезжайте прямо в Институт, я тоже туда приеду. Потом поедем ко мне. Сейчас Вам надо больше собрать сведений о жизни рукописи, о ее владельцах, словом, — выяснить ее путь (насколько, конечно, можно) от Аввакума до Заволоко».[28]
После успешного выступления И. Н. Заволоко в Пушкинском Доме с сообщением об открытии Д. С. Лихачев и В. II. Малышев предложили именовать новонайденную рукопись Аввакума и Епифанпя Пустозерским сборником Заволоко, а самому собирателю принять участие в издании рукописи. В 1968 г. И. Н. Заволоко передает Пустозерский сборник Древлехранилищу Пушкинского Дома в дар.[29] Известие о бесценном автографе и о бескорыстном вкладе И. Н. Заволоко облетело весь мир.
Вдохновленный высокой оценкой своей деятельности, Заволоко продолжает поиски. В ноябре 1968 г., когда В. И. Малышев лежал в больнице, Заволоко пишет ему: «Искренне желаю Вам еще здоровья и сил ко благу русской культуры. Самое главное — спокойствие душевное обрести. О себе скажу коротко. . . Согласен с Вами — надо торопиться, пока еще есть порох в пороховницах. Вот я и использовал лето для своих археографических поездок. . . Побывал в Москве, Новосибирске, Серпухове, и три поездки в Латгалию. Видимо, олимпийский год повлиял. Мною поставлен личный рекорд по числу совершенных поездок. Результаты — несколько рукописей поступило в мое собрание. Всего теперь около 100 номеров».[30]
В конце 60—начале 70-х гг. в переписке В. И. Малышева и И. Н. Заволоко доминируют, пожалуй, две темы: издание Пустозерского сборника, который был включен в план издательства «Наука», и осторожное, ненавязчивое, но решительное «подталкивание» В. И. Малышевым И. Н. Заволоко к мысли о передаче его коллекции в Древлехранилище Пушкинского Дома. Для фототипического издания автографов Заволоко пишет статью об истории находки сборника.[31] Из писем видно, с каким страстным нетерпением эти два человека ожидали выхода издания в свет, они ждали и жили Аввакумом. Заволоко писал Малышеву: «Пока Вы — единственный аввакумовед. А мы все прочие занимаемся этим постольку-поскольку. Не так воодушевлены, не так горим духовно, как Вы. Для блага общего дела нужно, чтобы Вы еще долгие годы сохранили свою работоспособность и инициативу».[32]
Тем временем коллекция Заволоко продолжала пополняться. К нему попадают рукописи от собирателей старины — старообрядцев М. С. Сергеева (г. Москва), П. Ф. Фадеева (г. Рига) и ряда других. Заволоко содействует передаче в Древлехранилище Пушкинского Дома рукописей из собрания латгальского книжника Д. Д. Михайлова. Археографы Пушкинского Дома широко используют рекомендации и советы И. Н. Заволоко в своей полевой работе.[33] В начале 1974 г. у него окончательно созревает решение подарить Пушкинскому Дому свое собрание. Он составляет опись коллекции и заверяет Малышева в том, что новые поступления будет пересылать в Пушкинский Дом дополнительно.
Наконец, в апреле 1974 г. И. Н. Заволоко отправляет в Ленинград в Пушкинский Дом три первых рукописи своего собрания: Сборник автографов выговских деятелей первой половины XVIII в. и две роскошно украшенных лексинского письма певческих рукописи. Этот вклад был приурочен к 25-летию хранилища. А уже в мае автору этих строк выпала честь привезти от Заволоко 125 рукописей XV—XX вв. Коллекция эта стала 44-м фондом Древлехранилища. В письме к В. И. Малышеву И. Н. Заволоко писал тогда: «Расстаюсь с рукописями не безболезненно, но с сознанием, что это пойдет на общую пользу, во имя моей любви к старине книжной».[34] Он передает свои рукописи безвозмездно. «Р, С, Т» («рцы» — «слово» — «твердо») — названия букв славянского алфавита — яляются его жизненным девизом.
В. И. Малышев решает одновременно создать наряду с собранием рукописей и личный архив Заволоко. Он обращается к И. Н. Заволоко: «Мы ждем теперь от Вас письма к Вам (присылайте все), фотографии Ваши, личные документы. . . словом, все, что характеризует Вашу личность всесторонне. Не бросайте, не уничтожайте, пожалуйста, личное. Вы принадлежите истории».[35] С того времени благодаря ежегодным новым пополнениям коллекция в фондах Древлехранилища увеличилась более чем вдвое и стала второй по количеству рукописей (после собрания акад. В. Н. Перетца) цельной личной коллекцией древних рукописей в ИРЛИ.
Переписка Заволоко с Малышевым не прерывалась до последних дней Владимира Ивановича. Когда «Пустозерский сборник» вышел в свет, Малышев сообщал Заволоко: «Я очень рад, что моя идея издать этот сборник фототипически осуществилась. Много было волнений и всего. Теперь все позади. Спасибо Вам за рукопись. . . еще раз».[36] Невозможно перечислить все темы и вопросы, затронутые в их переписке. В одном из писем Заволоко писал Малышеву: «В Откровении есть строчка: „О если бы ты был горяч или холоден! А ты — тепел, и я изблюю тебя из уст своих [37]. . . Вы (принадлежите) к категории „горячих людей11, живущих интересами общего дела, не считаясь с предупреждениями врачей».[38] Побывав на конференции молодых специалистов-древников в ИРЛИ в 1975 г., Заволоко делился с Малышевым: «Хотелось отметить свою радость, что среди молодежи видим интересующихся родной стариной. А ведь любовью к культурным ценностям прошлого я жил и сейчас живу. И радость в жизни нахожу. . . Ваш И. Н. Заволоко».[39]
[1] В. И. Малышев. Иван Никифорович Заволоко. (К 75-летию со дня рождения). — ТОДРЛ, т. XXVII. Л., 1972, с. 461—462.
[2] Г. В. Маркелов. Коллекция рукописей И. Н. Заволоко в Древлехранилище Пушкинского Дома. — ТОДРЛ, т. XXXIV. Л., 1979, с. 377—387.
[3] ИРЛИ, Рукописный отдел, архив В. И. Малышева, фонд 494, письма И. Н. Заволоко (далее — фонд № 494).
[4] ИРЛИ, Древлехранилище, колл. И. Н. Заволоко, № 162, 203, 227, 281 (далее — колл. Заволоко). К сожалению, не все письма Малышева сохранились.
[5] В. И. Малышев. Заметки о рукописных собраниях Ленинграда, Черно- виц, Риги, Двинска и других городов. — ТОДРЛ, т. VII. М.—Л., 1949, с. 466.
[6] Там же, примет. 2.
[7] Там же, с. 463.
[8] В. И. Малышев. Житие Александра Невского. (По рукописи середины XVI в. Гребенщиковской старообрядческой общины в г. Риге). — ТОДРЛ, т. V. М.-Л., 1947, с. 185—193.
[9] М. С о г 1 I п. Ье <111 йе 1а гите йе 1а 1егге Нивзе е! Йе 1а тог! йи §гаий рппсе 1аго81а-йг. — Веуие йез е!ийез 81ауез, 1947, XXI, р. 5—33.
[10] Фонд 494, из письма за март 1958 г.
[11] В. И. Малышев. О втором списке Слова о погибели Рускыя земли. (История открытия). — 81ау1а, XXVIII, 1. Прага, 1959, с. 69—72.
[12] Фонд № 494, из письма от 11 X 1958 г.
[13] Уникальные издания — журнал «Истина» старообрядческого издателя К. Голубцова, выпускавшийся в Иоганнесбурге (Восточная Пруссия) в 1863—1868 гг., содержащий полемику с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым; ныне находится в коллекции И. Н. Заволоко (№ 322).
[14] Фонд № 494, из письма от 6 IV 1958 г.
[15] Там же, из письма от 15 IX 1958 г.
[16] Там же, из письма от 24 IX 1958 г.
[17] Ю. К. Б е г у н о в, А. М. Панченко. Археографическая экспедиция в Эстонское Причудье. — ТОДРЛ, т. XVI. М.—Л., 1960, с. 520—527.
[18] И. Н. Заволоко. Собрание рукописей и старопечатных книг Д. Н. Першина и И. В. Дорофеева в Рижской Гребенщиковской общине. — ТОДРЛ, т. XVI. М.—Л., 1960, с. 567—569.
[19] Ju. K. Begunov. Auf der Suche nach altrussischen Handschriften bei den Altglaeubigen am Estnischen Ufer des Peipussees. — Zeitschrift fuer Slawistik, 1969, Bd XIV, H. 4, S. 506-518.
[20] ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 25, № 18.
[21] Фонд № 494, письмо от 28 XI 1967 г.
[22] Колл. Заволоко, № 162, письмо от 2 XII 1967 г.
[23] Калинин Федор Антонович — друг И. Н. Заволоко, реставратор икон, известный собиратель древнерусских рукописей. См. статью о нем Н. В. Понырко: наст, изд., с. 450—454.
[24] Фонд № 494, письмо от 12 XII 1967 г.
[25] Там же, письмо от 4 II 1968 г.
[26] Колл. Заволоко, № 162, письмо от 4 II 1968 г.
[27] Там же, письмо от 28 II 1968 г.
[28] Там же, письмо от 7 III 1968 г.
[29] Древлехранилище, оп. 24, № 43
[30] Фонд № 494, письмо от 5 XI 1968 ».
[31] И. Н. Заволоко. История находки рукописи. — В кн.: Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975, с. X—XIV.
[32] Фонд № 494, письмо от 3 VII 1972 г.
[33] Г. В. Маркелов, С. В. Фролов. Археографические экспедиции Пушкинского Дома в Латвию. — ТОДРЛ, т. XXX. Л., 1976, с. 352 и след.
[34] Фонд № 494, письмо от 16 VI 1974 г.
[35] Колл. Заволоко, № 281, открытка от 11.X—1974 г.
[36] Там же, письмо от 20.XI—1975 г.
[37] Апокалипсис, III, 16.
[38] Фонд № 494, письмо от 24 IX 1974 г.
[39] Фонд № 494, письмо от 10.VII 1975 г.
Г. В. Маркелов. Латгальская рукописно-книжная традиция
В рукописном наследии русских старообрядцев исторические сочинения занимают весьма важную часть. Наряду с агиографическими, полемическими, гимнографическими, литургическими и другими произведениями, жанровые основы которых старообрядцы почерпнули из древнерусской книжной традиции, в староверческой среде создавалась своя письменная история, памятники которой во многом отличались от историографических образцов Древней Руси.
В XIX—XX вв. российскими учеными’ были учтены, исследованы и опубликованы списки многих произведений, однако значительная часть рукописного наследия старообрядцев остается вне поля зрения исследователей. Данный обзор имеет целью указать на рукописи исторического содержания, находящиеся в Хранилище Древнерусских рукописей имени В. И. Малышева в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) РАН.
Как известно, фонды Древлехранилища Пушкинского Дома пополнялись за счет археографических экспедиций, направлявшихся в районы, заселенные старообрядцами и их потомками, а также за счет приобретений коллекций от собирателей древнерусской книжности, большинство из которых также являлись старообрядцами разных согласий. За пять десятилетий своего существования Древлехранилище в значительной степени стало представлять собой библиотеку русского староверия, в которой имеется немало памятников историографии старообрядцев разных согласий.
Наибольшая часть рукописей старообрядцев-беспоповцев принадлежит поморской рукописно-книжной традиции Выго-Лексинского общежительства. Произведения и перечень их списков в фондах Пушкинского Дома указан в нашей книге.[1][2] Среди них сочинения по истории Выго-Лексинской обители или о начале поморского согласия насчитывают более 40 списков, и повторять сведения о них в настоящем кратком обзоре не имеет смысла,[3] тем более, что ряд текстов рассмотрен в новейших исследованиях Е. М. Юхименко и Н. С. Гурьяновой.[4]
Честь открытия многих оригинальных сочинений беспоповцев принадлежит основателю Древлехранилища В. И. Малышеву. Так, произведение печорского сельского историографа «Сказание миробытной истории, от сотворения мира и до нынешних времен вкратце написаннная»(Усть-Цилемское собр., № 69, л. 2—69) найдено ученым на Печоре. Впервые описывая Сказание, В. И. Малышев указал, что оно сочинено в 1840-х гг., в период, предшествовавший жестоким репрессиям против староверов.[5] В тексте продемонстрировано лояльное отношение к властям, особенно к Петру Великому и Александру I. Не исключено, что автором являлся кто-то из местных печорских поморцев, упомянувший в качестве духовных учителей основателей Выговской пустыни и призывавший считать истинными христианами тех, кто укрывается в лесах и скитах. К особенностям текста следует отнести краткое конспективное изложение мировых исторических событий.
Вряду местных исторических сочинений поморцев отметим «Известное показание о нашей православной християнской вере Устинской волости в пределех в Уре(н)ских»[6](Отдельные поступления, оп 24, № 130, л. 545—564), которое изобилует точными реалиями и подробностями, поскольку описывает исключительно местную историю. В «Показании» излагаются события от начала до 80-х гг. XVIII в., происходившие в крупном старообрядческом селе Урень в Костромской губернии. Как явствует из текста, автором был местный житель из числа поморцев. В его описании довольно спокойное течение жизни местных общин, устроители которых были благословлены еще самим Даниилом Викулиным, прерывается появлением «раздорников», сначала филипповцев, а затем и федосеевцев. Уреньским староверам приходилось отправлять на Выг своих представителей с тем, чтобы там получать образцы уставов, ибо именно Выгореция неизменно оставалась духовным авторитетом для поморцев. Хронологическая канва повествования служит как бы фоном для заключительной части текста, в которой автор сурово обличает «раздорников», вносящих смуту и соблазн в правоверное бытие односельчан.
Повод для написания другого беспоповского сочинения XVIII в. указан в самом названии памятника, обращенного к «Требующим доказательства, от кого и с каких времен… прияша власть простии крестити и на покаяние приимати…»[7](колл. Перетца, № 572, л. 131—138). Главным эпизодом повествования является рассказ о деятельности и решениях так называемого «Курженского» собора, от которого староверы многих толков ведут свои родословные. На соборе, согласно рукописи, было предоставлено право мирянам (т. е. «простым») в случае крайней необходимости совершать некоторые таинства без рукоположенных священников. Эта же тема продолжена и в «Сказании о прежде бывших начальных отец наших»[8](в той же рукописи, с л. 138 об.), сочиненном после 1810 г. кем-то из федосеевцев. В «Сказании» перечислены беспоповские наставники-федосеевцы, перечни которых доведены до 1798 г., новгородских, псковских, ярославских, польских, стародубских и других общин.
Оба вышеуказанных сочинения были использованы автором весьма пространной истории федосеевцев: «Толкование на главу 57 о степени отеческой от последних благочестивых священнопастырей и их приемников, страдавших за древнее благочестие иноков и простых, правящих духовными делами…»[9](колл. Заволоко, № 33, л. 193—239 об.). Автор ссылается и на другие источники кроме указанных: «Историю о московских страдальцах» (?), Соловецкую челобитную, «Российский Виноград» и др. В этом позднем федосеевском сочинении подробно и старательно описывается случившееся вплоть до 1885 г. Текст создан очевидцем и участником многих событий, касающихся Преображенского кладбища. Автор скрыл свое имя за инициалами «Е. Я. К.».[10]
С Преображенским кладбищем в Москве тесно связана судьба старообрядческого хроникера из Курляндии Василия Золотова. Созданный им «Хронограф сиречь летописец Курляндско-Литовский»(Латгальское собр., № 51), в котором известия доведены до середины XIX в., является уникальным источником по истории русских федосеевских общин в Прибалтике начиная с XVII в.[11]
Историка может заинтересовать небольшое повествование о жизни московского купца-федосеевца Ф. Ф. Осинина[12] (1752—1814) (колл. Пухальского, № 18). Его тело, погребенное на Преображенском кладбище, в 1824 г. было обретено нетленным. Уместно напомнить, что важным историческим материалом обладают рукописные синодики — помянники, причем в традиционных поморских списках нередко встречаются добавления и маргинальные приписки, являющиеся уникальными документами. Так, в Синодике конца XVIII в. (колл. Руденок, № 14, л. 216—228 об.) помещены жизнеописания и словесные портреты именитых петербургских купцов Долгих, бывших в течение 1710—1791 гг. крупнейшими благотворителями Выго-Лексинской общины.[13]
Памятники старообрядческой историографии содержат нередко малоизвестные детали и подробности. Так, в одном из страннических (скрытнических) сборников конца XIX в. (Верхне-Печорское собр., № 118)[14] описываются эпизоды из жизни русских староверов, скрывавшихся в Крымских лесах с 1683 г. (!?). После побед Потемкина и Суворова тавридские скрытники составили делегацию от шести скитов и обратились к Потемкину с просьбой разрешить им жить по-старому, безбрачно и без документов, на что якобы и было получено устное дозволение светлейшего. Основатель страннического толка старец Евфимий, как повествуется в рукописи, имел то же учение и корень веры, что и крымские пустынники, и только за недосугом не успел к ним приехать. Любопытно, что автор ссылается на «Историю русской Церкви» Филарета (Гумилевского) и на издание «Исторических актов».
Сочинения по истории странников[15] представлены в Древлехранилище Пушкинского Дома анонимным «Сказанием о начатии и происхождении странников и различных отраслех»[16](колл. Амосова—Богдановой, № 107, л. 169—181). Автор, подробно излагая биографию старца Евфимия, скончавшегося в 1782 (?) г., критически относится к самоубийственной практике «запощевания» и иным «мудрованиям» странников. Произведение создано не позднее середины XIX в. История странников от начала «толка» и до 1890-х гг. в Вологодской, Ярославской и Томской губерниях прослеживается в полемическом сборнике конца XIX в. (Карельское собр., № 92). Здесь в канву полемических трактатов включены целые отрывки из «Книги „Русский сектант»», в которых хронология странников доведена до конца XIX в. История включает подробные сведения об известном идеологе и полемисте Никите Семенове и его следственном деле, о жизни и быте преемников Никиты в страннических скитах Томской губернии, приведены рассмотрения статей по вопросам брака и т. д. Тем же почерком, что и в вышеуказанном сборнике, переписано позднее авторское послание, начинающееся со слов: «По разделении поповщины со старообрядцами поморского согласия…»[17] (Карельское собр., № 567, л. 158—163, сочинение без заглавия).[18] В сочинении также рассмотрено родословие странников, здесь названное «братством».
В уже упоминавшемся сборнике начала XIX в. из собр. Перетца, № 572 находится (с л. 153 об.) составленное в жанре полемического послания «Известие о Филиппе старце, от которого и согласие Филиппово именуется».[19]«Известие» содержит биографические сведения об основателе филипповского толка, историю его конфликта с Семеном Денисовым, а также критику его учения, написанную с позиций федосеевцев, осуждавших практику самосожжений. Памятник содержит немало подробностей о первоначальном этапе формирования филипповского согласия.
Как известно, филипповское согласие распространилось в северных губерниях после разорения и упадка поморской Выго-Лексинской обители в середине XIX в. От филипповцев ведут свое происхождение странники, называемые также скрытниками, бегунами, подпольщиками и т. д., чье учение отличается наибольшим радикализмом, полным неприятием внешнего мира — мира антихриста. Но филипповский же толк породил и более умеренное и даже признающее брак согласие аароновцев. О последних повествует «История о разных христианех, обретающихся в Сольвычегодском уезде в разных местах»[20](колл. Амосова—Богдановой, № 107, л. 36—59). Памятник создан около 1880 г. в связи с обострившейся полемикой между филипповцами и «либеральными» аароновцами по вопросам брачной жизни. Автор стоял на позициях непримиримого филипповца и оснастил свой труд многочисленными подробностями из местной жизни. Об Аароне и его сподвижнике Ануфрии Протопопове, основавших свое бракоприемлющее согласие, повествуется в кратком сочинении начала XX в., называемом «От чего называется ароновское согласие или секта и почему называется безголовая»[21](колл. Амосова—Богдановой, № 178).
Исследователям известна особенность многих старообрядческих волостей, характерная для кризисного состояния местных сообществ, когда внутри одного села можно встретить адептов противоположных конфессий, находящихся в крайне враждебных отношениях между собой. Нередко такие внутренние расколы вызывали появление сочинений местных историографов, пытающихся доискаться до корней своего толка и доказать его истинность и непогрешимость. К их числу относится «Повествование о родословии христианском в Нижнетоемской волости»[22](колл. Амосова— Богдановой, № 107, л. 71—75 об.). В этом сочинении, как и в ряде других произведений северодвинских сельских историографов,[23] сочетаются традиционные письменные источники с местными полулегендарными повествованиями.
Старообрядческие историографы не гнушались обращаться к светским источникам. Например, анонимный автор из Причудья, собирая выписки по общей истории раскола XVII в., делал ссылки на сочинения Татищева (Причудское собр., № 14). Выписки из рукописных фондов Соловецкого собрания, Румянцевского музея, Императорской Публичной библиотеки и других архивов, а также библиографические отсылки можно найти в сборнике конца XIX в., написанном кем-то из «скрытников» (Мезенское собр., № 24, с л. 14).
По сравнению с количеством исторических сочинений, созданных представителями беспоповцев разных согласий, исторических произведений, написанных поповцами, значительно меньше, как меньше и самих поповских согласий, сохранявших относительную монолитность, в отличие от обильно разветвлявшихся беспоповцев.
Выделим вначале беглопоповские сочинения. Перечень иереев «древнего благочестия», рукоположенных после епископа Павла Коломенского и бежавших от Никоновых «новин» в разные места России, содержится в сочинении, озаглавленном: «Списано вкратце о бегствующих отец древлехиротонисанных Филаретом и прочими митрополиты, архиепископами и епископами»[24](Керженское собр., № 108, л. 45 об.). По замечанию автора, мощи этих отцов почивают нетленными. Известное во многих списках сочинение беспоповца Ивана Алексеева «История о бегствующем священстве»[25]также имеется в фондах Древлехранилища (Северодвинское собр., № 362).
Образцом поповской историографии можно считать «Кратчайшее начертание истории Ветковской церкви, вкупе же и краткое изложение догматов и преданий, чинов же и обрядов и обычаев»[26](Мезенское собр., № 24). «Начертание» сочинено выдающимся писателем, автором известного «Окружного послания» поповцем И. Г. Кабановым (Ксеносом) (1819—1882) и содержит пространный обзор событий, начинающихся с реформ патриарха Никона. Ветковская история изложена подробно; например, автор приводит «Реестр или счисление священников ветковских» от Феодосия, бежавшего в Стародубье еще при царевне Софье, до отца Михаила Калмыка, скончавшегося в 1795 г. Важно отметить, что в тексте приведен перечень местных авторов и список их сочинений. Старательно описаны эпизоды разорения («выгонки»), постигшие обитель в 1736 и 1763 гг. и носившие губительный характер. Однако Ветка выстояла и даже укрепила «филиалы» в Стародубье, Зыбкове, Митковке, Климове, Казани. В «Начертании» имеются ссылки на различные источники, например на некую «Историю рукописную Морозовых» и даже на светский альманах «Сын отечества».
Другая «Летопись Ветковской церкви Покровского монастыря»также принадлежит к числу авторских сочинений и сохранилась в автографе (колл. Перетца, № 387).[27] Рукопись представляет собой пространный дневник певчего Покровской обители Якова Степановича Беляева, начатый в 1779 г. В дневнике Беляева сочетаются подробности обительской жизни с обильной цитацией полемических сочинений и посланий местных авторов. Летопись ценна тем, что в ней зафиксированы свидетельства очевидца, наблюдавшего и отчасти участвовавшего в процессе становления в России единоверческой церкви. Яков Беляев повествует о том, как в начале 1780-х гг. у ветковцев зародилась идея испросить для себя архиерея от правительствующего Синода и как с помощью князя Потемкина и графа Румянцева в Петербурге им удалось добиться осуществления своего плана. В дневнике можно найти портреты и характеристики современников, описания происшествий, бытовые зарисовки, описания архитектуры и убранства Ветковской обители. Подробно описаны Беляевым жизнь и работа местных иконописцев, переписчиков книг, певчих, а также поездки на ярмарки, путешествия в Москву, Петербург, Заволжье. Я. С. Беляев предположительно был автором еще нескольких книг, в которых выступал как апологет единоверия.
Еще один памятник ветковской истории имеет название «Синоксарь богоспасаемаго монастыря Покровскаго Климовскаго, нареченнаго в святом крещении Новопечерским Киевским. Списася того монастыря келарем о страдальческих подвигах православных христиан»[28](колл. Перетца, № 428). В этом сочинении конца XVIII в. повествуется о драматической осаде ветковских обителей — мужской Покровской и женской Казанской— драгунами, которых новгород-северский губернатор И. Б. Бибиков по настоянию протоиерея Андрея Иоаннова Журавлева[29][30] направил с целью закрытия монастыря в 1791 г. Сочинение написано, по всей вероятности, очевидцем событий в духе древнерусской исторической повести и включает описания «чудес», вроде того, что пули драгунских ружей запутывались в бородах защитников, не причиняя осажденным никакого вреда. Подробно описываются многодневная осада обителей, сопротивление старообрядцев, бесчинства воинской команды. Осада по указу киевского наместника окончилась миром, и ветковцам на какое-то время разрешили жить по-старому.
История Белокриницкой старообрядческой иерархии представлена в Древлехранилище Пушкинского Дома списком «Краткой истории древлеправославной Российской церкви благочестиваго священства»3″(Отдельные поступления, оп. 23, № 82, л. 1—16). В написанном в 1878 г. сочинении проводится присущая поповцам мысль о непрерывности священства от протопопа Аввакума через керженских и ветковских настоятелей до митрополита Амвросия, ставшего первым архиереем нового времени, рукоположившим старообрядческих священников, чьи преемники окормляют поповские общины и поныне. В этой же рукописи имеется «Краткое начертание о жизни Амвросия митрополита Белокриницкаго»(л. 58 и след.), причем в тексте приведены выдержки из подлинных документов, в числе которых: ставленные грамоты, переписка Амвросия с властями Австро-Венгрии, вначале разрешившими ему служить на территории Буковины, а затем, под давлением Петербурга, запретившими митрополиту служить в старообрядческой Белой Кринице.
Схожие сведения содержатся в рукописи с утраченным названием (колл. Перетца, № 649), написанной незадолго до 1869 г. Текст представляет собой обширную компиляцию из разных источников и начинается с известий о реформах патриарха Никона. Кроме сведений, повторяющихся в разных старообрядческих сочинениях, в рукописи содержатся описания малоизвестных фактов о гонениях во времена Анны Иоанновны, о донских казаках, подвергнутых пыткам, о разорении Иргизского монастыря, о бегстве казаков-некрасовцев в Турцию и оттуда на Дунай. История заканчивается призванием митрополита Амвросия в Белую Криницу. Весьма краткие выписки из преимущественно светских источников по истории Белокриницкой иерархии находятся в сборнике XX в. из колл. Заволоко, № 263.
Редкие сведения по истории уральских и сибирских «часовенных» староверов находятся в гектографированной копии начала XX в анонимного сочинения, озаглавленного «Краткое описание о бегстве православнаго христианскаго благочестиваго священства, влекущего благословение от Иосифа патриарха по лествице нисходящей…»[31](Отдельные поступления, оп. 23, № 94). Кроме общеизвестных данных о родословии поповских согласий в сочинении излагается история екатеринбургских и верхотурских скитов, доведенная до 1890 г.[32] Здесь также приведены постановления местных соборов: Чулымского (1909), Бийских (1903—1908), Ектеринбургского (1888), Рамыльского (1890).
Заметим, что разделы исторического содержания вставлялись старообрядческими авторами в сочинения разных жанров и тематической направленности. Не всегда за многословным названием того или иного сочинения можно угадать, что в памятнике имеется интересующий нас раздел. Равно как и то, что фигурирующие в названии произведения слова «история» или «исторический» не обязательно указывают на действительно историографическое содержание памятника. Эти особенности старообрядческой литературы следует учитывать при просмотре рукописей.
[1] См исследования П С Смирнова, Н Субботина, Г Есипова, Е В Барсова В Г Дружинина, С А Зеньковского, В И Малышева, Н Н Покровского, Н В Понырко, Е М Юхименко, Ю Н Бубнова, Н С Гурьяновой, А И Мальцева, Н С Демковой и др
[2] Маркелов Г В Писания выговцев Инципитарий (в печати)
[3] Там же См № 13, 14, 43, 118, 150, 166, 167, 189
[4] Юхименко Е М Выговская старообрядческая пустынь Духовная жизнь и литература В 2 т М, 2002, Гурьянова Н С История и человек в сочинениях старообрядцев XVIII века Новосибирск, 1996
[5] Малышев В И Усть-Цилемские рукописные сборники XVI—XX вв Сыктывкар, 1960 С 119
[6] В указателе Дружинина (см Дружинин В Г Писания русских старообрядцев СПб , 1912) текст не отмечен Часть сочинений, рассматриваемых в настоящем обзоре, не была известна В Г Дружинину
[7] Дружинин В Г Писания С 451
[8] Там же С 415
[9] Там же Текст не отмечен
[10] Вероятно, Е Я Карев — историограф, певчий федосеевского Преображенского кладбища
[11] См нашу публикацию памятника Маркелов Г В Дегуцкий летописец//Древлехранилище Пушкинского Дома Материалы и исследования Л , 1990 С 166 248
[12] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[13] Будара1ин В П Биография петербургского купца Ф К Долгого в старообрядческом синодике конца XVIII—начала XIX веков//IX МЕМОК1АМ Сб памяти Я С Лурье СПб , 1997 С 321-325
[14] Ср близкий текст в сборнике из колл Амосова—Богдановой, № 107, л 169—181
[15] Перечень сочинений странников см в кн Мальцев А И Староверы-странники в XVIII—1-й половине XIX в Новосибирск, 1996 С 233—265
[16] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[17] Там же Текст не отмечен
[18] Ср текст в сборнике Керженского собр , № 24, л 133
[19] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[20] Куандыков А К Филипповские полемические сочинения XIX в о скитской жизни И Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири Новосибирск, 1982 С 119—122
[21] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[22] Там же Текст не отмечен
[23]БобровА Г Из истории народной письменности Русского Севера (Старообрядческое сочинение 1887 г о качемских скитах)//Культурно-исторический диалог Традиция и текст СПб, 1993 С 30—41
[24] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[25] Там же С 36, 41
[26] Там же Текст не отмечен
[27] Там же Текст не отмечен
[28] Текст издан См Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В Кельсиевым Лондон, 1861 Вып 2 С 221—244
[29] Охтинский протоиерей о А И Журавлев — автор первого исследования о русских старообрядцах Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках СПб , 1792
[30] Сочинение издано в Яссах, в типографии А Берма и К°, 1878
[31] Байдин В И, Шашков А Т Исторические сочинения уральских старообрядцев XVIII—XIX вв // Историография общественной мысли дореволюционного Урала Свердловск, 1988 С 4—9
[32] Духовная литература староверов востока России XVII—XX вв Новосибирск, 1999 С 31—391
Г. В. Маркелов. Памятники старообрядческой историографии в фондах Древлехранилища Пушкинского Дома
В рукописном наследии русских старообрядцев исторические сочинения занимают весьма важную часть. Наряду с агиографическими, полемическими, гимнографическими, литургическими и другими произведениями, жанровые основы которых старообрядцы почерпнули из древнерусской книжной традиции, в староверческой среде создавалась своя письменная история, памятники которой во многом отличались от историографических образцов Древней Руси.
В XIX—XX вв. российскими учеными’ были учтены, исследованы и опубликованы списки многих произведений, однако значительная часть рукописного наследия старообрядцев остается вне поля зрения исследователей. Данный обзор имеет целью указать на рукописи исторического содержания, находящиеся в Хранилище Древнерусских рукописей имени В. И. Малышева в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) РАН.
Как известно, фонды Древлехранилища Пушкинского Дома пополнялись за счет археографических экспедиций, направлявшихся в районы, заселенные старообрядцами и их потомками, а также за счет приобретений коллекций от собирателей древнерусской книжности, большинство из которых также являлись старообрядцами разных согласий. За пять десятилетий своего существования Древлехранилище в значительной степени стало представлять собой библиотеку русского староверия, в которой имеется немало памятников историографии старообрядцев разных согласий.
Наибольшая часть рукописей старообрядцев-беспоповцев принадлежит поморской рукописно-книжной традиции Выго-Лексинского общежительства. Произведения и перечень их списков в фондах Пушкинского Дома указан в нашей книге.[1][2] Среди них сочинения по истории Выго-Лексинской обители или о начале поморского согласия насчитывают более 40 списков, и повторять сведения о них в настоящем кратком обзоре не имеет смысла,[3] тем более, что ряд текстов рассмотрен в новейших исследованиях Е. М. Юхименко и Н. С. Гурьяновой.[4]
Честь открытия многих оригинальных сочинений беспоповцев принадлежит основателю Древлехранилища В. И. Малышеву. Так, произведение печорского сельского историографа «Сказание миробытной истории, от сотворения мира и до нынешних времен вкратце написаннная»(Усть-Цилемское собр., № 69, л. 2—69) найдено ученым на Печоре. Впервые описывая Сказание, В. И. Малышев указал, что оно сочинено в 1840-х гг., в период, предшествовавший жестоким репрессиям против староверов.[5] В тексте продемонстрировано лояльное отношение к властям, особенно к Петру Великому и Александру I. Не исключено, что автором являлся кто-то из местных печорских поморцев, упомянувший в качестве духовных учителей основателей Выговской пустыни и призывавший считать истинными христианами тех, кто укрывается в лесах и скитах. К особенностям текста следует отнести краткое конспективное изложение мировых исторических событий.
Вряду местных исторических сочинений поморцев отметим «Известное показание о нашей православной християнской вере Устинской волости в пределех в Уре(н)ских»[6](Отдельные поступления, оп 24, № 130, л. 545—564), которое изобилует точными реалиями и подробностями, поскольку описывает исключительно местную историю. В «Показании» излагаются события от начала до 80-х гг. XVIII в., происходившие в крупном старообрядческом селе Урень в Костромской губернии. Как явствует из текста, автором был местный житель из числа поморцев. В его описании довольно спокойное течение жизни местных общин, устроители которых были благословлены еще самим Даниилом Викулиным, прерывается появлением «раздорников», сначала филипповцев, а затем и федосеевцев. Уреньским староверам приходилось отправлять на Выг своих представителей с тем, чтобы там получать образцы уставов, ибо именно Выгореция неизменно оставалась духовным авторитетом для поморцев. Хронологическая канва повествования служит как бы фоном для заключительной части текста, в которой автор сурово обличает «раздорников», вносящих смуту и соблазн в правоверное бытие односельчан.
Повод для написания другого беспоповского сочинения XVIII в. указан в самом названии памятника, обращенного к «Требующим доказательства, от кого и с каких времен… прияша власть простии крестити и на покаяние приимати…»[7](колл. Перетца, № 572, л. 131—138). Главным эпизодом повествования является рассказ о деятельности и решениях так называемого «Курженского» собора, от которого староверы многих толков ведут свои родословные. На соборе, согласно рукописи, было предоставлено право мирянам (т. е. «простым») в случае крайней необходимости совершать некоторые таинства без рукоположенных священников. Эта же тема продолжена и в «Сказании о прежде бывших начальных отец наших»[8](в той же рукописи, с л. 138 об.), сочиненном после 1810 г. кем-то из федосеевцев. В «Сказании» перечислены беспоповские наставники-федосеевцы, перечни которых доведены до 1798 г., новгородских, псковских, ярославских, польских, стародубских и других общин.
Оба вышеуказанных сочинения были использованы автором весьма пространной истории федосеевцев: «Толкование на главу 57 о степени отеческой от последних благочестивых священнопастырей и их приемников, страдавших за древнее благочестие иноков и простых, правящих духовными делами…»[9](колл. Заволоко, № 33, л. 193—239 об.). Автор ссылается и на другие источники кроме указанных: «Историю о московских страдальцах» (?), Соловецкую челобитную, «Российский Виноград» и др. В этом позднем федосеевском сочинении подробно и старательно описывается случившееся вплоть до 1885 г. Текст создан очевидцем и участником многих событий, касающихся Преображенского кладбища. Автор скрыл свое имя за инициалами «Е. Я. К.».[10]
С Преображенским кладбищем в Москве тесно связана судьба старообрядческого хроникера из Курляндии Василия Золотова. Созданный им «Хронограф сиречь летописец Курляндско-Литовский»(Латгальское собр., № 51), в котором известия доведены до середины XIX в., является уникальным источником по истории русских федосеевских общин в Прибалтике начиная с XVII в.[11]
Историка может заинтересовать небольшое повествование о жизни московского купца-федосеевца Ф. Ф. Осинина[12] (1752—1814) (колл. Пухальского, № 18). Его тело, погребенное на Преображенском кладбище, в 1824 г. было обретено нетленным. Уместно напомнить, что важным историческим материалом обладают рукописные синодики — помянники, причем в традиционных поморских списках нередко встречаются добавления и маргинальные приписки, являющиеся уникальными документами. Так, в Синодике конца XVIII в. (колл. Руденок, № 14, л. 216—228 об.) помещены жизнеописания и словесные портреты именитых петербургских купцов Долгих, бывших в течение 1710—1791 гг. крупнейшими благотворителями Выго-Лексинской общины.[13]
Памятники старообрядческой историографии содержат нередко малоизвестные детали и подробности. Так, в одном из страннических (скрытнических) сборников конца XIX в. (Верхне-Печорское собр., № 118)[14] описываются эпизоды из жизни русских староверов, скрывавшихся в Крымских лесах с 1683 г. (!?). После побед Потемкина и Суворова тавридские скрытники составили делегацию от шести скитов и обратились к Потемкину с просьбой разрешить им жить по-старому, безбрачно и без документов, на что якобы и было получено устное дозволение светлейшего. Основатель страннического толка старец Евфимий, как повествуется в рукописи, имел то же учение и корень веры, что и крымские пустынники, и только за недосугом не успел к ним приехать. Любопытно, что автор ссылается на «Историю русской Церкви» Филарета (Гумилевского) и на издание «Исторических актов».
Сочинения по истории странников[15] представлены в Древлехранилище Пушкинского Дома анонимным «Сказанием о начатии и происхождении странников и различных отраслех»[16](колл. Амосова—Богдановой, № 107, л. 169—181). Автор, подробно излагая биографию старца Евфимия, скончавшегося в 1782 (?) г., критически относится к самоубийственной практике «запощевания» и иным «мудрованиям» странников. Произведение создано не позднее середины XIX в. История странников от начала «толка» и до 1890-х гг. в Вологодской, Ярославской и Томской губерниях прослеживается в полемическом сборнике конца XIX в. (Карельское собр., № 92). Здесь в канву полемических трактатов включены целые отрывки из «Книги „Русский сектант»», в которых хронология странников доведена до конца XIX в. История включает подробные сведения об известном идеологе и полемисте Никите Семенове и его следственном деле, о жизни и быте преемников Никиты в страннических скитах Томской губернии, приведены рассмотрения статей по вопросам брака и т. д. Тем же почерком, что и в вышеуказанном сборнике, переписано позднее авторское послание, начинающееся со слов: «По разделении поповщины со старообрядцами поморского согласия…»[17] (Карельское собр., № 567, л. 158—163, сочинение без заглавия).[18] В сочинении также рассмотрено родословие странников, здесь названное «братством».
В уже упоминавшемся сборнике начала XIX в. из собр. Перетца, № 572 находится (с л. 153 об.) составленное в жанре полемического послания «Известие о Филиппе старце, от которого и согласие Филиппово именуется».[19]«Известие» содержит биографические сведения об основателе филипповского толка, историю его конфликта с Семеном Денисовым, а также критику его учения, написанную с позиций федосеевцев, осуждавших практику самосожжений. Памятник содержит немало подробностей о первоначальном этапе формирования филипповского согласия.
Как известно, филипповское согласие распространилось в северных губерниях после разорения и упадка поморской Выго-Лексинской обители в середине XIX в. От филипповцев ведут свое происхождение странники, называемые также скрытниками, бегунами, подпольщиками и т. д., чье учение отличается наибольшим радикализмом, полным неприятием внешнего мира — мира антихриста. Но филипповский же толк породил и более умеренное и даже признающее брак согласие аароновцев. О последних повествует «История о разных христианех, обретающихся в Сольвычегодском уезде в разных местах»[20](колл. Амосова—Богдановой, № 107, л. 36—59). Памятник создан около 1880 г. в связи с обострившейся полемикой между филипповцами и «либеральными» аароновцами по вопросам брачной жизни. Автор стоял на позициях непримиримого филипповца и оснастил свой труд многочисленными подробностями из местной жизни. Об Аароне и его сподвижнике Ануфрии Протопопове, основавших свое бракоприемлющее согласие, повествуется в кратком сочинении начала XX в., называемом «От чего называется ароновское согласие или секта и почему называется безголовая»[21](колл. Амосова—Богдановой, № 178).
Исследователям известна особенность многих старообрядческих волостей, характерная для кризисного состояния местных сообществ, когда внутри одного села можно встретить адептов противоположных конфессий, находящихся в крайне враждебных отношениях между собой. Нередко такие внутренние расколы вызывали появление сочинений местных историографов, пытающихся доискаться до корней своего толка и доказать его истинность и непогрешимость. К их числу относится «Повествование о родословии христианском в Нижнетоемской волости»[22](колл. Амосова— Богдановой, № 107, л. 71—75 об.). В этом сочинении, как и в ряде других произведений северодвинских сельских историографов,[23] сочетаются традиционные письменные источники с местными полулегендарными повествованиями.
Старообрядческие историографы не гнушались обращаться к светским источникам. Например, анонимный автор из Причудья, собирая выписки по общей истории раскола XVII в., делал ссылки на сочинения Татищева (Причудское собр., № 14). Выписки из рукописных фондов Соловецкого собрания, Румянцевского музея, Императорской Публичной библиотеки и других архивов, а также библиографические отсылки можно найти в сборнике конца XIX в., написанном кем-то из «скрытников» (Мезенское собр., № 24, с л. 14).
По сравнению с количеством исторических сочинений, созданных представителями беспоповцев разных согласий, исторических произведений, написанных поповцами, значительно меньше, как меньше и самих поповских согласий, сохранявших относительную монолитность, в отличие от обильно разветвлявшихся беспоповцев.
Выделим вначале беглопоповские сочинения. Перечень иереев «древнего благочестия», рукоположенных после епископа Павла Коломенского и бежавших от Никоновых «новин» в разные места России, содержится в сочинении, озаглавленном: «Списано вкратце о бегствующих отец древлехиротонисанных Филаретом и прочими митрополиты, архиепископами и епископами»[24](Керженское собр., № 108, л. 45 об.). По замечанию автора, мощи этих отцов почивают нетленными. Известное во многих списках сочинение беспоповца Ивана Алексеева «История о бегствующем священстве»[25]также имеется в фондах Древлехранилища (Северодвинское собр., № 362).
Образцом поповской историографии можно считать «Кратчайшее начертание истории Ветковской церкви, вкупе же и краткое изложение догматов и преданий, чинов же и обрядов и обычаев»[26](Мезенское собр., № 24). «Начертание» сочинено выдающимся писателем, автором известного «Окружного послания» поповцем И. Г. Кабановым (Ксеносом) (1819—1882) и содержит пространный обзор событий, начинающихся с реформ патриарха Никона. Ветковская история изложена подробно; например, автор приводит «Реестр или счисление священников ветковских» от Феодосия, бежавшего в Стародубье еще при царевне Софье, до отца Михаила Калмыка, скончавшегося в 1795 г. Важно отметить, что в тексте приведен перечень местных авторов и список их сочинений. Старательно описаны эпизоды разорения («выгонки»), постигшие обитель в 1736 и 1763 гг. и носившие губительный характер. Однако Ветка выстояла и даже укрепила «филиалы» в Стародубье, Зыбкове, Митковке, Климове, Казани. В «Начертании» имеются ссылки на различные источники, например на некую «Историю рукописную Морозовых» и даже на светский альманах «Сын отечества».
Другая «Летопись Ветковской церкви Покровского монастыря»также принадлежит к числу авторских сочинений и сохранилась в автографе (колл. Перетца, № 387).[27] Рукопись представляет собой пространный дневник певчего Покровской обители Якова Степановича Беляева, начатый в 1779 г. В дневнике Беляева сочетаются подробности обительской жизни с обильной цитацией полемических сочинений и посланий местных авторов. Летопись ценна тем, что в ней зафиксированы свидетельства очевидца, наблюдавшего и отчасти участвовавшего в процессе становления в России единоверческой церкви. Яков Беляев повествует о том, как в начале 1780-х гг. у ветковцев зародилась идея испросить для себя архиерея от правительствующего Синода и как с помощью князя Потемкина и графа Румянцева в Петербурге им удалось добиться осуществления своего плана. В дневнике можно найти портреты и характеристики современников, описания происшествий, бытовые зарисовки, описания архитектуры и убранства Ветковской обители. Подробно описаны Беляевым жизнь и работа местных иконописцев, переписчиков книг, певчих, а также поездки на ярмарки, путешествия в Москву, Петербург, Заволжье. Я. С. Беляев предположительно был автором еще нескольких книг, в которых выступал как апологет единоверия.
Еще один памятник ветковской истории имеет название «Синоксарь богоспасаемаго монастыря Покровскаго Климовскаго, нареченнаго в святом крещении Новопечерским Киевским. Списася того монастыря келарем о страдальческих подвигах православных христиан»[28](колл. Перетца, № 428). В этом сочинении конца XVIII в. повествуется о драматической осаде ветковских обителей — мужской Покровской и женской Казанской— драгунами, которых новгород-северский губернатор И. Б. Бибиков по настоянию протоиерея Андрея Иоаннова Журавлева[29][30] направил с целью закрытия монастыря в 1791 г. Сочинение написано, по всей вероятности, очевидцем событий в духе древнерусской исторической повести и включает описания «чудес», вроде того, что пули драгунских ружей запутывались в бородах защитников, не причиняя осажденным никакого вреда. Подробно описываются многодневная осада обителей, сопротивление старообрядцев, бесчинства воинской команды. Осада по указу киевского наместника окончилась миром, и ветковцам на какое-то время разрешили жить по-старому.
История Белокриницкой старообрядческой иерархии представлена в Древлехранилище Пушкинского Дома списком «Краткой истории древлеправославной Российской церкви благочестиваго священства»3″(Отдельные поступления, оп. 23, № 82, л. 1—16). В написанном в 1878 г. сочинении проводится присущая поповцам мысль о непрерывности священства от протопопа Аввакума через керженских и ветковских настоятелей до митрополита Амвросия, ставшего первым архиереем нового времени, рукоположившим старообрядческих священников, чьи преемники окормляют поповские общины и поныне. В этой же рукописи имеется «Краткое начертание о жизни Амвросия митрополита Белокриницкаго»(л. 58 и след.), причем в тексте приведены выдержки из подлинных документов, в числе которых: ставленные грамоты, переписка Амвросия с властями Австро-Венгрии, вначале разрешившими ему служить на территории Буковины, а затем, под давлением Петербурга, запретившими митрополиту служить в старообрядческой Белой Кринице.
Схожие сведения содержатся в рукописи с утраченным названием (колл. Перетца, № 649), написанной незадолго до 1869 г. Текст представляет собой обширную компиляцию из разных источников и начинается с известий о реформах патриарха Никона. Кроме сведений, повторяющихся в разных старообрядческих сочинениях, в рукописи содержатся описания малоизвестных фактов о гонениях во времена Анны Иоанновны, о донских казаках, подвергнутых пыткам, о разорении Иргизского монастыря, о бегстве казаков-некрасовцев в Турцию и оттуда на Дунай. История заканчивается призванием митрополита Амвросия в Белую Криницу. Весьма краткие выписки из преимущественно светских источников по истории Белокриницкой иерархии находятся в сборнике XX в. из колл. Заволоко, № 263.
Редкие сведения по истории уральских и сибирских «часовенных» староверов находятся в гектографированной копии начала XX в анонимного сочинения, озаглавленного «Краткое описание о бегстве православнаго христианскаго благочестиваго священства, влекущего благословение от Иосифа патриарха по лествице нисходящей…»[31](Отдельные поступления, оп. 23, № 94). Кроме общеизвестных данных о родословии поповских согласий в сочинении излагается история екатеринбургских и верхотурских скитов, доведенная до 1890 г.[32] Здесь также приведены постановления местных соборов: Чулымского (1909), Бийских (1903—1908), Ектеринбургского (1888), Рамыльского (1890).
Заметим, что разделы исторического содержания вставлялись старообрядческими авторами в сочинения разных жанров и тематической направленности. Не всегда за многословным названием того или иного сочинения можно угадать, что в памятнике имеется интересующий нас раздел. Равно как и то, что фигурирующие в названии произведения слова «история» или «исторический» не обязательно указывают на действительно историографическое содержание памятника. Эти особенности старообрядческой литературы следует учитывать при просмотре рукописей.
[1] См исследования П С Смирнова, Н Субботина, Г Есипова, Е В Барсова В Г Дружинина, С А Зеньковского, В И Малышева, Н Н Покровского, Н В Понырко, Е М Юхименко, Ю Н Бубнова, Н С Гурьяновой, А И Мальцева, Н С Демковой и др
[2] Маркелов Г В Писания выговцев Инципитарий (в печати)
[3] Там же См № 13, 14, 43, 118, 150, 166, 167, 189
[4] Юхименко Е М Выговская старообрядческая пустынь Духовная жизнь и литература В 2 т М, 2002, Гурьянова Н С История и человек в сочинениях старообрядцев XVIII века Новосибирск, 1996
[5] Малышев В И Усть-Цилемские рукописные сборники XVI—XX вв Сыктывкар, 1960 С 119
[6] В указателе Дружинина (см Дружинин В Г Писания русских старообрядцев СПб , 1912) текст не отмечен Часть сочинений, рассматриваемых в настоящем обзоре, не была известна В Г Дружинину
[7] Дружинин В Г Писания С 451
[8] Там же С 415
[9] Там же Текст не отмечен
[10] Вероятно, Е Я Карев — историограф, певчий федосеевского Преображенского кладбища
[11] См нашу публикацию памятника Маркелов Г В Дегуцкий летописец//Древлехранилище Пушкинского Дома Материалы и исследования Л , 1990 С 166 248
[12] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[13] Будара1ин В П Биография петербургского купца Ф К Долгого в старообрядческом синодике конца XVIII—начала XIX веков//IX МЕМОК1АМ Сб памяти Я С Лурье СПб , 1997 С 321325
[14] Ср близкий текст в сборнике из колл Амосова—Богдановой, № 107, л 169—181
[15] Перечень сочинений странников см в кн Мальцев А И Староверы-странники в XVIII—1-й половине XIX в Новосибирск, 1996 С 233—265
[16] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[17] Там же Текст не отмечен
[18] Ср текст в сборнике Керженского собр , № 24, л 133
[19] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[20] Куандыков А К Филипповские полемические сочинения XIX в о скитской жизни И Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири Новосибирск, 1982 С 119—122
[21] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[22] Там же Текст не отмечен
[23]БобровА Г Из истории народной письменности Русского Севера (Старообрядческое сочинение 1887 г о качемских скитах)//Культурно-исторический диалог Традиция и текст СПб, 1993 С 30—41
[24] Дружинин В Г Писания Текст не отмечен
[25] Там же С 36, 41
[26] Там же Текст не отмечен
[27] Там же Текст не отмечен
[28] Текст издан См Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В Кельсиевым Лондон, 1861 Вып 2 С 221—244
[29] Охтинский протоиерей о А И Журавлев — автор первого исследования о русских старообрядцах Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках СПб , 1792
[30] Сочинение издано в Яссах, в типографии А Берма и К°, 1878
[31] Байдин В И, Шашков А Т Исторические сочинения уральских старообрядцев XVIII—XIX вв // Историография общественной мысли дореволюционного Урала Свердловск, 1988 С 4—9
[32] Духовная литература староверов востока России XVII—XX вв Новосибирск, 1999 С 31—391
Каталог иконного собрания Е.Е. Егорова
Егор Егорович Егоров (03.04.1862, Москва – 15.12.1917, Москва) известен каждому исследователю московского старообрядчества. Московский купец 2-й гильдии, признанный начетчик, авторитетнейший деятель Преображенской федосеевской общины, собиратель книг, иконописи, произведений мелкой пластики. Кроме этого, с 1905 по 1917 год он был неофициальным и непризнанным летописцем Преображенской федосеевской общины. Е.Е. Егоров родился в семье потомственных старообрядцев, происходивших из Рыбинского уезда Ярославской губернии. Первым в Москву переехал его дед – Константин Егорович Егоров [1].
Среди федосеевцев Е.Е. Егоров был признанным знатоком церковного искусства [2]. Его собрание икон, мелкой пластики и шитья находилось в домашней моленной, в фамильном особняке Егоровых в Салтыковском переулке.
В основу этой коллекции легли иконы, доставшиеся Егору Егоровичу от его деда и отца. Егоров составил каталог своего иконного собрания. Этот каталог включает два раздела:
- иконы темперные. В этом разделе 1180 записей (л.1-133).
- иконы резные и медные. В этом разделе 66 записей (л.136-139).
В каталоге Егоров отмечал, если икону приобрел его отец («покуп[к]и К.Е.Егорова»). Если икона фамильная, то есть информация, кого ею благословили (например, №№ 4, 6, 8). Есть указания, у кого куплена икона, ее размер, кратко охарактеризован стиль («новгородского письма», «греческого письма» и т.д.). Есть информация о том, у кого и за какую цену заказана риза.
Судьба коллекции не менее трагична, чем судьба самого Егора Егоровича. Егоров вел переговоры с советом Преображенской общины о перевозе коллекций на Преображенское кладбище. Переговоры велись долго, на протяжении 1910-х годов. Коллекцию предполагали разместить в здании больницы Преображенского кладбища, но Егорова не устраивали меры безопасности. Окончательное решение должно было быть принято весной 1918 года.
Но 15 декабря 1917 года Егоров был убит у себя дома, в особняке. Ему было всего 55 лет. На протяжении многих лет не было известно никаких подробностей данного убийства, но в 2013 году Е.М. Юхименко опубликовала часть переписки знаменитого федосеевского наставника, иконописца Гавриила Ефимовича Фролова. В письме от 17 сентября 1928 года Лука Арефьевич Гребнев сообщает Фролову: «Георгий Егорович Егоров тоже помер насильственной смертью – убит бывшим его же певчим в своем доме» [3]. Другие обстоятельства этой трагедии нам по-прежнему неизвестны. Егор Егорович Егоров был похоронен на Преображенском кладбище.
Коллекции Егорова были приняты на хранение в Румянцевский музей. Далее часть памятников попала в Государственный Исторический музей, часть – в Третьяковскую галерею [4]. Книги и личные документы составили фонд Егорова №98 в Отделе рукописей Библиотеки имени Ленина, ныне Российская Государственная библиотека. В настоящий момент из личных документов Е.Е. Егорова формируется отдельный фонд №952.
***
Каталог иконного собрания Е.Е. Егорова
Архивный шифр: ОР РГБ Ф.952 К.1 Ед.19
Название единицы хранения по описи: «Каталог икон строгановской, московской, новгородской и других школ живописи из собрания Е.Е. Егорова, с указанием их предыдущих владельцев, даты поступления и цены».
Крайние даты: 1888–1916 гг.
145 л.
На листах 133об. – 135 об. записей нет.
- Рыков Ю.Д. Собрание Егора Егоровича Егорова // Рукописное собрание Государственной библиотеки СССР имени В.И. ленина. Указатель. Том 1, Вып. 2. М., 1986. С. 61.
- Например, Василий Титович Семенов — федосеевец, казанский мещанин – пишет Егорову 9 ноября 1910 года: «Тупица тупицей и всё. Не о чем было и гордиться. Поехали они с шику – кто мы – получать из Министерства Внутренних Дел отобранные вещи, а все ничего не понимающие, и понабрали там, и сами не знают, что и их обделали все три партии вер(?) иконами. Ну, чтобы взять с собою тебя бы…» ОР РГБ Ф.98 Б/ш №2066(2076) Л.128.
- Опубл.: Мануйлов Ю. Икона староверов Причудья: Гавриил Ефимович Фролов и его иконописная мастерская (комментарии Е.М. Юхименко). Эстония, 2013. С.453-454.
- Ковтырева Л.В. Старообрядцы-федосеевцы и их иконы в музейных коллекциях // История собирания, хранения и реставрации памятников древнерусского искусства. Сборник статей по материалам найчной конференции (25-28 мая 2010 года). М., 2012. С.133-140.
Фильм «Преображенское: история, современность и духовные связи»
Фильм Натальи Литвиной рассказывает о московском Преображенском монастыре и Преображенском кладбище.
Операторская работа: Н.В. Литвина
Продюсер: М.Б. Пашинин
Фильм создан при финансовой помощи «Фонда президентских грантов»
Фильм «Время вернуться домой»
Фильм Натальи Литвиной рассказывает о староверах вернувшихся жить на Дальний Восток спустя годы жизни вне России.
Операторская работа: Н.В. Литвина
Продюсер: М.Б. Пашинин
Фильм создан при финансовой помощи «Фонда президентских грантов»
К.Я. Кожурин. Федосеевские духовные центры русско-польского пограничья в XVII-XIX вв.
В 1699 г. произошло событие, которое сыграло в дальнейшем колоссальную роль в истории русского старообрядчества: духовный лидер новгородских старообрядцев-беспоповцев Феодосий Васильев, спасаясь от гонений церковных и гражданских властей, переехал вместе со своей семьей за «польский рубеж». «За ним множество христиан от градов, весей и сел, потекоша во след его, желающе древлецерковное святое Православие не мятежно соблюсти», – говорится в его Житии. С разрешения польских властей на землях пана Куницкого близ деревни Русановой Кропивенской волости Невельского уезда были устроены две обители: мужская и женская. Всего собралось в обителях Феодосия «мужеска пола до 600, девиц же и жен до 700». Однако материальное процветание общины привело к участившимся набегам польских солдат, что вынудило Феодосия Васильева вернуться обратно в Россию в 1708 г. По приглашению покровительствовавшего ему князя А.Д. Меньшикова он поселился недалеко от польской границы – в Вязовской волости, на меньшиковских землях.
«4 апреля 1708 года Меньшиков на имя Феодосия Васильева и Захара Бедринского дал лист, которым разрешалось этим выходцам из Польши, со всею «братией», поселиться на принадлежащих Меньшикову землях и там свободно отправлять богослужение по старопечатным книгам. «Понеже, – говорилось в данном листе, – прежде сего жившие за Польским и Литовским рубежем избранники, в них же первые общих мужска и женска полу жительств совещатели Феодосий Васильев и Захарий Ларионов также миром общежительств семьи с женами и с детьми, возжелали из за тех рубежей выдти в сторону его царскаго величества, на наше имя, и по его царскаго величества указу оных избранников мы приятно принять, и в Великолуцком уезде, в дворцовой и разорения не чинил; также и сверх наложенных на них податей от нас излишняго ничего, а наипаче подвод и людей в провожатые, никуда ни за чем брать отнюдь да не дерзает, под опасением его царскаго величества жестокаго указа; чего ради во свидетельство дан им сей лист, за подписью нашей руки, за печатью нашею, в главной квартире, в Могилеве» [1]. Получив такое разрешение, федосеевцы в большей своей части переселились на новое место [2], и зажили здесь сначала довольно привольно» [3].
Как известно, А.Д. Меньшиков покровительствовал старообрядцам. И это неслучайно. Здесь, видимо, не обошлось без влияния его духовника. В 1722 г. крестовый поп князя Меньшикова Никифор Терентьев Лебедка был привлечен к делу о старце Варлааме (Василии) Левине. Оказалось, что он был «совращен в раскол» в 1707 г., встретившись в Новгороде с прежним своим духовным сыном, новгородским посадским человеком Гаврилою Нечаевым. «Нечаев только что возвратился из брынских лесов, где прожил несколько лет между раскольниками и сделался их ревностным последователем. Прежний духовный сын Лебедки совратил его с пути православия и Лебедка принял горячо учение о пришедшем на землю антихристе в лице Петра. «У нас в книгах это написано», говорил ему Нечаев, и Лебедка верил ему безусловно. Живя у Меньшикова, Лебедка покровительствовал своим собратьям, но вел себя так осторожно, что никто и не подозревал в нем раскольника. Мог ли думать Меньшиков, преданный так глубоко Петру, что самое близкое ему лицо в доме, его духовник, раскольник и заклятый враг преобразователя России?» [4]. «Поп крестовой князя Меншикова Лебедка был казнен 7 августа (1722 г. – К.К.) в Москве, у тиунской избы: он сознался, что был раскольником и считал Петра антихристом» [5].
В Вязовской волости были устроены две общежительные обители – мужская и женская – по образцу прежде бывших невельских. Но в этих местах федосеевцам пришлось прожить недолго. Из-за неурожаев и эпидемии моровой язвы, истребившей значительное число насельников в 1710 г., наступило «великое оскудение и нужда», и Феодосий начинает искать более удобного места.
Уже после смерти Феодосия в новгородской тюрьме в 1711 г. его последователи переселились в Ряпину мызу в Юрьевском уезде (сейчас – Эстония). Однако в 1719 г. этот духовный центр федосеевского согласия был разгромлен петровскими солдатами, и духовный руководитель общины, сын Феодосия Васильева Евстрат Васильев снова был вынужден переселиться в Речь Посполитую, где продолжил проповедь староверия. Часть его сподвижников последовала за ним, а часть переселилась в Стародубье и иные места, благодаря чему федосеевское учение распространилось не только по всей России, но и далеко за ее пределами. «В 1720–1760-х федосеевские общины в северо-восточной части Речи Посполитой – в Ступилишках (Лифляндия), Балтруках (Курляндия), в Давыдово (позже Себежский уезд Витебской губернии), в Гудишках и др. – сделались одними из видных руководящих центров раннего федосеевства за границей. Между этими зарубежными и федосеевскими (также поморскими) общинами в России поддерживалась связь, происходила оживленная переписка и иногда проводились собеседования» [6].
Интересные документы, касающиеся связей российских и польских староверов, сохранились в архиве Синода. Так, в октябре 1723 г. поручик Зиновьев, занимавшийся розыском староверов, донес, что Псковской епархии, в пригороде Велье, вотчины генерал-прокурора Ягужинского, также в монастырских и дворцовых вотчинах, близ Польского рубежа, живут «раскольники» и говорят: «ежели он, поручик Зиновьев, в те места к ним приедет (для сбора), то-де они уйдут за Польский рубеж», что «священники Псковской епархии «о детех духовных подают к прежде поданным прошлаго 1721 году книгам в пополнение и пишут их в исповеди и в приобщении Св. Таин, а сказывают, что-де в прежде поданных книгах прописаны безпамятством», а между тем штрафов с них, за бедностию, взять нечего, и что цыфра исповедующихся из неисполнявших прежде христианского долга заметно возросла во время переписи раскольников. По первому из этих доношений Синод приговорил: описи раскольников в тех местах не производить, на основании указа 14-го Февраля 1716 года; а по второму: штрафы править. Вместе с сим Зиновьеву велено было употребить все средства отыскать раскольничьих учителей Михайлова и Ивана Бедра и прислать их в С. Петербург» [7].
«Псковской-де епархии провинциал-инквизитера монаха Савватия да Опочинскаго заказу, Сергиевския церкви инквизитера иерея Петра Федорова в доношениях к раскольническим делам объявлено: в приходе в Елье (Велье? – К.К.), в Никольской малой и в Михайловской волостях, в вотчине генерала-прокурора Павла Ивановича Ягужинскаго, крестьяне его обретаются близь польскаго рубежа в расколе, по именам, мужеска полу, кроме жен и детей, 14 человек; дворцовых крестьян, по именам же, 4 человека; монастырских 3 человека, которые-де раскольщики в оклад не положены» [8].
№ 530/299 4 декабря/20 октября 725 г. По доношению иеромонаха Иосифа Решилова, с требованием резолюции, как поступать с раскольниками, которые, поселившись от польской границы в 60 и 100 верстах, считают себя «порубежными» и на этом основании уклоняются от платежа двойного оклада?
Святейший Синод постановил: раскольников, живущих на разстоянии 60 и 100 верст от границы записать в двойной оклад, о чем и сообщил Правительствующему Сенату ведение, «с требованием совершенной резолюции». Но Сенат отказался от обсуждения этого вопроса до присылки из Синода ведомостей о всех раскольниках, сбор с которых двойного оклада предоставлен стольнику Афанасию Савелову…
11 октября 1725 г. было вторичное обсуждение в Св. Синоде того же вопроса, но решен он не был. Наконец, вскоре после этого, 20 октября, состоялась в Сенате конференция членов Синода и Сената. Обсуждался вопрос о «порубежных раскольниках», однако по данному вопросу «Правительствующий Сенат никакой резолюции не учинил» [9].
Массовая эмиграция русских старообрядцев в Польшу продолжалась на протяжении всего XVIII в., тем более что большого труда это не составляло. Документы того времени свидетельствуют, что россияне из соседнего Великолуцкого уезда «проходили в Польшу в день». Переход границы облегчало и то, что пограничные заставы были маленькими и располагались на большом расстоянии друг от друга. «Начатое в 1723 г. сооружение пограничного рубежа Рига – Великие Луки – Смоленск не только не обеспечивало надлежащей охраны с российской стороны, но и было настолько ненадежным, что сквозь него по потайным тропам и дорогам из России в Речь Посполитую и обратно почти беспрепятственно проезжали малые и большие группы людей с повозками, гружеными имуществом» [10]. Указ императрицы Анны Иоанновны, изданный по Ведомству военной коллегии 19 мая 1739 г., гласил: «Ее Императорскому Величеству известно учинилось, что крестьяне оставя свои домы, бегут в Польшу, а особливо из Велико-луцкой, Псковской и Новгородской Провинций, которых при границах в некоторых местах за сведением форпостов, а в иных за малолюдством удерживать некому. Того ради, Ее Императорское Величество указала: Смоленского гарнизона один полк, укомплектовав людьми, мундиром, ружьем и амунициею, отправить немедленно на Великие Луки, и по прибытии туда, распределить по форпостам, начав от Лук Великих до самой Лифляндской границы; а в прочих местах, такие форпосты содержать, как прежними Ее Императорского Величества указами определено, во всем непременно, и о непропуске таких беглых за границу, по всем пограничным форпостам подтвердить наикрепчайшими указами» [11].
Однако никакие форпосты не могли удержать русских людей, не желавших изменять вере своих предков, от бегства за границу. Пограничный комиссар майор Сковидов писал из Псковской провинции в Сенат 16 октября 1762 г.: «…многие отступники от Православной кафолической церкви превратились к проклятой Раскольнической ереси, чрез лесные наставления находящихся тамо (в Польше. – К.К.) везде здешних же беглецов той ереси лжеучителей и так один другого, хотя бы который из них и вознамерился из раскаяния о своем преступлении, не допускают; да иной час от часу нетокмо по одиночке или семьями, но целыми деревнями со всеми своими пожитками и скотом дезертируют, а удержанию их от того побегу никаким образом невозможно, ибо имеющиеся по границе форпосты бутка от бутки в дальней расстоянии, да и на тех солдат токмо человека по три, при том числе немало есть таких, кои совсем престарелые и неимеющие никакого движения; к тому некоторые форпосты состоят не на настоящих пограничных местах, а внутри России… Итак ни форпостными, ни резервными командами в каком они не были состоянии побегов пресечь невозможно; посылаемые по подаваемым от здешних помещиков их поверенных доношениях к польскому шляхетству о выдаче беглецов требования почти бесплодны остаются, ибо они о том и думать не хотят, что в требованиях Российской стороны какое удовольствие сделать и добровольно выдачи чинить и нетокмо прежних не выдают, но и вновь приходящих принимают и в своих моентностях (имениях) укрывают непрестающе; когда идет требование отдать, кои при побеге или выходе из Польши причинили России немалое воровство, разбои и разорения, по обстоятельному же о жительстве их расследовании, тогда отзывается словесно, якобы во владениях их деревень таких беглецов нет и чрез такие случаи столько теперь умножилось в Польшу беглецов, что и умещать уже их на своих землях негде; то многие, узнав про воровство в Российских беглецах, природных своих крестьян в чужие моентности отпускают, а в те места российских посылают. Другие <помещики>, которые имели только землю по малому числу и сами пахали, ныне от содержания беглецов здешних разбогатясь полученными от них доходами приумножили земель и имеют большие маентности…» [12]
В 1767 г. дворяне Великолукского уезда в составленном им наказе депутатам в комиссию по подготовке проекта Нового Уложения так определяли главную причину своего бедственного положения: «Главнейшей причиной всех изнеможений нашего Великолуцкого уезда дворян есть причиняемые разорения от побегов за польскую границу крестьян, в коем, егда надлежащих предпринято не будет мер, не только здешнее дворянство, крестьянство в крайнейшее бедствие придти может, но и армия Ея Императорского Величества лишается несколько тысяч человек людей, годных в службу Ея Величества… Крестьяне от помещиков бегут в Польшу целыми семьями… Пришедше беглые к заставе и видя караульного или двух, не могущим им против большого их числа никакого препятствия от побега учинить, да к томуж и караульныя, расположенные по границе будки одна от другой не ближе как в семи и восьми верстах расстоянием обстоят; а как в каждой будке караульных есть не более двух человек, кои никоим образом усмотреть и воздержать беглых не могут… Помещик, предузнав о их побеге, не может за ними послать погони, для того самого, что пока он известится о их уходе, до того времени беглые его уже давно в Польше; ибо расстояние российских деревень есть от Польши не далее двух и трех верст, а многия и по близости самой границы поселенныя состоят…» [13]
Один из первых историков старообрядчества в Витебской губернии единоверческий священник Василий Волков (Волкович) опубликовал в 1867 г. любопытные документы, переданные ему «стариком раскольником филипповского согласия, живущим в Невельском уезде на рубеже Витебской и Псковской губерний». Документы представляли собою шесть контрактов. «Это бумажные ветошки, на которых за сто лет тому назад записаны имена домохозяев, выходцев из Великороссии раскольников и некоторые условия на поселение их в Невельском уезде в имениях Радзивиллов. Писаны эти контракты по-польски, однообразно слово в слово, с занесением только других деревень и домохозяев. Самый точный перевод сих контрактов на русскую речь – гласит следующее: “1769 года ноября 8 дня. Я нижеподписавшийся выдаю сие мое условие или контракт, на основании данной мне доверенности графинею Констанциею Радзивилловою вовеводшею Минскою и поверенным комиссаром Францем Вышинским от Его Сиятельства князя Иеронима-Флориана Радзивилла, хорунжего великого княжества Литовского, выходцам из России (имена…) в том, что им дозволяется поселиться на земле Невельского уезда, Фарантовского войтовства в деревнях… названных и занять земли сколько им нужно; за пользование этою землею имеют или платить аренду, положенную в инвентаре 8 октября 1750 года; а если же не пожелают проживать на той земле, то по уплате арендных денег, могут проживать где пожелают. Поверенный и эконом Довкинд”. В шести такого содержания контрактах поименованы следующие домохозяева: Филипп Григорьев, Федот Меркуров, Иван Меркуров, Григорий Онуфриев, Емельян Ларионов, Денис Сергеев, Емельян Данилов, Стефан Сергеев, Юрий Гаврилов, Марк Григорьев, Евдоким Никифоров, Василий Севастеев, Лев Григорьев, Василий Григорьев, Евстафий Григорьев, Алексей Григорьев, Киприан Симонов, Роман Федоров, Моисей Федоров, Косьма Фоков, Константин Фоков, Ларион Алексеев, Михаил Моисеев, Стефан Лукьянов, Герасим Игнатьев, Максим Титов и Карп Агафонов с родственниками их» [14]. По мнению В. Волкова, все это были староверы-филипповцы, которые могли оказаться на территории Речи Посполитой после предпринятой ими в 1765 г. попытки захвата Зеленецкого монастыря в Новгородской епархии и последовавшей за этим гарью, однако каких-либо подтверждающих это мнение фактов у нас нет.
Контракт, заключенный поселенцами, не заключал в себе никаких стеснительных условий и даже предоставлял им право оставлять занятую ими землю и искать другой. «Раскольники в Витебской губернии селились на порожних местах помещичьих имений, на землях, принадлежавших монастырям униатским и латинским и выбирали преимущественно места лесистые, самые глубокие и уединенные трущобы. Заселение таких мест, которые до того ни помещикам, ни монастырям не доставляли никакой пользы, было неожиданною находкою как для тех, так и для других. В первые десятки годов поземельная плата, или по-здешнему аренда, была самая ничтожная; она производилась грибами, орехами, ягодами, вывозкою дров, медом и прочими мелочами. Но это зависело не от бескорыстия владельцев, а от расчетов их. Им нужно было сперва, чтобы раскольники обстроились, обселились и распахали землю, а потом они уже возвышали цены на землю и, как раскольники жили без контрактов и без паспортов, землевладельцы прибирали их в свои руки и некоторые записывали крепостными» [15]. И действительно, в дальнейшем мы видим, что уже дети, внуки и все потомство упомянутых выше вольных поселенцев вплоть до 19 февраля 1861 г. были крепостными князя Витгенштейна, Кардо-Сысоева, Соколовских, Меллина и других помещиков.
Благодаря близости границы и той легкости, с какой ее можно было преодолеть, в конце XVII – XVIII вв. на территории русско-польского приграничья (Невельский и Себежский уезды) складывается пять локальных групп старообрядцев со своими духовными центрами. Один из них – это уже упоминавшаяся Русановская обитель в Крапивенской волости Невельского уезда. Впоследствии (до середины XX в.) здесь находилась старообрядческая деревня Обитель (сейчас урочище Обитель на территории Новосокольнического района Псковской области). Обительская моленная существовала до начала XIX в. Затем, уже в начале XX в., была построена новая моленная, просуществовавшая до 30-х гг. Также в 1907 г. была построена моленная в располагавшейся неподалеку деревне Молотовка.
Другой центр – деревня Большой Пружинец, неподалеку от озера Язно, служившего в XVIII в. границей Речи Посполитой с Россией. Первые документальные сведения о Пружинской моленной относятся к 1826 г., однако по ряду косвенных данных она существовала еще в XVIII столетии. Наконец, третий крупный центр – обитель близ деревни Давыдово. В 1739 г. в деревне Давыдово Себежского уезда состоялся собор, на котором присутствовало тридцать духовных лиц, множество книжных и простолюдинов. «Практически все положения Собора касались вопроса о браке. По сути, это было подтверждение установлений Собора 1694 г. о запрещении духовным жить в “келиях наединении с зазорными лицы, и с духовными дочерми, и с девицами, и с женами нежить и со старейшими, и с применицами”. Впрочем: “Такоже учинить и простым человеком… А тем житием чтоб заскверну душ своих не погубить”. Собор положил избирать на послужение либо “старейших жен”, либо лиц мужского пола. Людям духовным молодых же “жен и девиц” в стряпухах и за келейниц не держать. За несоблюдение сего установления положено отлучать. Положил Собор разводить и тех, кто окажется в родстве духовном – один кум у мужа и жены и вместе жить не велеть. Что касается новоженов, венчавшихся в еретической церкви или сошедшихся без венчания, смешанных браков (половинок), когда один из сожителей не принадлежал к федосеевщине, то положено таковых на покаяние не принимать, детей не крестить, на службу не пускать, совместно с ними не пить, не есть. Запрещение распространялось и на окрещенных детей новоженских до тех пор, пока они “отцов своих неотстанут”, исключение по крещению делалось при болезни детей, однако родители при этом давали обещание разойтись, приходящих же “от мира”, которые покинут своих сожителей и вновь вступят в сожительство, положено крестить только после развода и впредь “им вкупе жити невелеть”. Под страхом отлучения духовным отцам в случае нарушения постановлений запрещено принимать на исповедь и крестить детей» [16].
В сборнике, составленном в 1785 г. известным витебским купцом-старовером, писателем, краеведом и собирателем древностей Иваном Ивановичем Собольщиковым (1763–1836), говорится о «Колпинском собрании» – собрании 17 наставников старообрядцев-беспоповцев, состоявшемся 1 октября 1751 г. в д. Колпино (впоследствии в составе Себежского уезда Витебской губернии). В заключительном документе говорилось: «…было у нас общее собрание в Польше, во обители, о церковных вещах. Присовещали общим отеческим и братским советом подтверждение нашея христианския веры, дабы нам последовати прежним страдальцам и чтителям». На собрании рассматривались вопросы религиозно-нравственного характера, были приняты 48 правил. Среди участников собрания был Ф.Н. Саманский. О том, что данный собор проходил именно в Себежском уезде, говорит и злынковская рукопись 1834 г.: «Егда бысть собор за Рубежем, в Польше, в Себежском уезде во обители в лето 7260-е октября 1-го дня» [17].
Земли Невельского и Себежского уездов по Первому разделу Речи Посполитой (1772) были присоединены к России. Память о том, что земли эти когда-то принадлежали Польше, сохранялась среди местных староверов вплоть до недавнего времени, что отразилось в самоназвании: жители деревень, располагавшихся на юг от озера Язно, которое некогда служило границей двух государств, продолжали называть себя «поляками», в противоположность своим северным соседям, которых именовали, как и всех псковичей, «скобарями».
После присоединения земель Невельского уезда к Российской империи жизнь местных староверов изменилась. Развитие старообрядчества в Российской империи всегда находилось под пристальным вниманием правительства. Либеральная политика Екатерины II и Павла I по отношению к старообрядцам продолжалась и в царствование Александра I (1801–1825). В циркулярном письме всем губернским начальникам от 19 августа 1820 г. задачи правительства в отношении старообрядчества формулировались следующим образом: «Раскольники не преследуются за мнения их секты, относящиеся до веры, и могут спокойно держаться сих мнений и исполнять принятые ими обряды, без всякого, впрочем, публичного оказательства учения и богослужения своей секты… ни под каким видом не должны они уклоняться от наблюдения общих правил благоустройства, законами определенных» [18]. Считая староверие сектантством, которое со временем должно быть полностью изжито, и называя послабления послепетровского времени «мнимыми правами» старообрядцев, правительство Александра I, тем не менее, не желало начинать новых гонений. В государственном законодательстве этого времени ярко выразился тот же принцип, по которому господствующая церковь решилась на учреждение единоверия — «терпимость без признания».
На практике же политика правительства выражалась в том, чтобы «не замечать» старообрядчества. Старообрядцы также не должны были лишний раз напоминать о своем существовании. Во избежание «оказательства раскола» они были лишены возможности ходить крестным ходом вокруг своих храмов даже на Пасху, а старообрядческие духовные лица не имели возможности вне храма носить подобающую их сану одежду. Они могли собираться на общую молитву, но так, чтобы никто их не видел, могли содержать моленную, но так, чтобы по виду здания или по колокольному звону нельзя было определить, что это именно храм. Но несмотря на такое полулегальное положение, старообрядцы много строили: появлялись новые храмы и даже целые монастыри с многочисленными насельниками.
В 1823 г. в Невельском уезде, по официальным данным, значилось 540 старообрядческих семейств. Из них беспоповцев – 1548 душ мужского пола и 1848 женского, поповцев – 124 души мужского пола и 141 женского [19]. В 1826 г. «безпоповщины молящейся за царя и приемлющих брак» значится 163 души мужского пола и 172 женского – разных сословий, и 1185 душ мужского пола и 1368 женского – помещичьих крестьян; «старообрядцев приемлющих священство» – 122 души мужского пола и 136 женского (помещичьих крестьян) [20].
В «Ведомости о расколах разных сословий и сект, находящихся в Невельском уезде за 1841 г.» перечисляются три старообрядческих согласия, существовавших на территории уезда: «1-я секта безпоповщина мужиковщина молящаяся за царя и приемлющая браки» (1001 душа мужского пола и 1049 – женского), «2-я секта поповщина молящаяся за царя и приемлющая браки» (194 м.п. и 185 ж.п.) и «3-я секта безпоповщина молящаяся за царя отвергающая браки» (516 м.п. и 488 ж.п.). Всего по Невельскому уезду числится 3433 старообрядца различных согласий [21]. Относительно духовных центров старообрядчества в официальных документах того времени содержатся следующие сведения. В рапорте невельского земского исправника витебскому губернатору от 6 октября 1826 г. сообщается: «Во исполнение предписания Вашего Превосходительства от 26-го минувшаго сентября № 322, честь имею почтеннейше донести, что в Невельском уезде состоит пять часовень, в которых совершается старообрядцами Богослужение, а именно в имении Серутях помещика маиора Матиаса одна, по михельсоновскаго имению в Колошинской части одна, помещика Вилимбахова в деревне Репище одна, имение княжны Радзивилловой в деревне Лутно одна и в имении помещика Кардо-Сысоева в деревне Пружинцах одна» [22].
2 октября 1826 г. себежский земский исправник доносил витебскому губернатору: «Исполняя предложение Вашего Превосходительства последовавшее ко мне от 26-го минувшего сентября за № 321 имею честь Вашему Превосходительству донести, что в Себежском повете состоят две старообрядческия моленныя в коих оне совершают Богослужение. 1-е. Князя Константина Огинскаго в деревне Яковлеве; 2-е. помещика Ивана Потриковскаго в деревне Обителях и 3-я часовня на кладбище близ деревни Жалобна помещика Александр<а> Молля» [23]. Что касается самого Себежа, то, по донесению себежского городничего, в городе нет старообрядческих моленных, «потому что в обществе города Себежа ни одного старообрятца не состоит» [24].
С началом правления Николая I (1825–1855) уже были забыты все помыслы о реформах и воцарилась неудержимая реакция. Старообрядцы лишились всех льгот, предоставленных им прежними царями: они снова были лишены прав гражданства и возможности открыто совершать богослужение на своей Родине. Вновь принимаются законы, лишающие староверов элементарных прав. С 1834 г. старообрядцам запрещено вести метрические книги (раньше выписки из них являлись юридическим документом и заменяли собой паспорт) — таким образом, староверы оказывались вне закона. Не признавались старообрядческие браки, а дети староверов являлись по законам того времени незаконнорожденными. Они не имели прав ни на наследство, ни на фамилию отца. Правительством для борьбы со старообрядчеством создавались различные «секретные совещательные комитеты» с центральным комитетом в Петербурге, занимавшиеся слежкой и контролировавшие жизнь староверских общин с целью их подавления и закрытия. Комитеты состояли из губернатора, архиерея, председателя государственных имуществ и жандармского офицера. Само существование подобных комитетов и их совещания должны были оставаться в тайне. Все дела, касавшиеся «раскола» велись под грифом «секретно». С каждым годом «стеснительные меры против старообрядцев» только увеличивались: моленные и часовни, построенные и украшенные
- Рукоп. Киевской академии из издания митрополита Макария № Аа. 120, л.л. 142 – 142 об.
- Некоторые из владений пана Куницкого переселились в вотчину Новгородского Юрьева монастыря и поселились частию в деревне Луках, частию в Залучье. (Опис. док. и дел. Синода, V, стр. 259).
- Смирнов П.С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII в. СПб., 1909. С. 58 – 59.
- Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии. СПб., 1861. С. 13.
- Там же. С. 49.
- Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: Краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 59.
- Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Том I (1542 – 1721). СПб., 1868. С. 661 – 663.
- Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Том IV (1724). СПб., 1880. С. 374.
- Там же. С. 542.
- Поташенко Г. Староверие в Литве (вторая половина XVII – начало XIX): Исследования, документы и материалы. Вильнюс, 2006. С. 248–249.
- Полное собрание законов Российской империи с 1648 г. Собрание 1. Т. 10. СПб., 1830. № 7807.
- Цит. по: Поташенко Г. Староверие в Литве… С. 196.
- Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 14. СПб., 1875. С. 365–368.
- Волков В. Письменный документ о времени поселения раскольников в Витебской губернии // Витебские губернские новости. № 41, 1867 г. Неофициальная часть.
- Волков В. Сведения о начале, распространении и разделении раскола и о расколе в Витебской губернии. Витебск, 1866. С. 51.
- Никонов В.В. Староверие Латгалии: очерки по истории староверческих обществ Режицкого и Люцинского уездов (2-я половина XVII – 1-я половина XX вв.). Резекне, 2008. С. 129–130. При этом Никонов ссылается на рукопись «Отеческих завещаний», составленную С. Гнусиным.
- Там же. С. 130.
- Цит. по: Вургафт С.Г., Ушаков И.А. Старообрядчество. Лица, события, пред¬меты и сим¬волы. Опыт энциклопедического словаря. М., 1996. С. 14.
- НИРБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 429.
- Там же. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 674.
- Там же. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 51589. Л. 66 – 69 об.
- НИРБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 478. Л. 19 – 19 об.
- НИРБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 478. Л. 14 – 14 об.
- Там же. Л. 13.
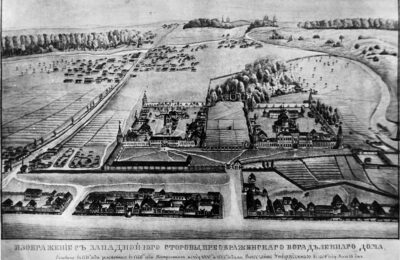



 Скачать «Каталог икон Е.Е. Егорова» (123 Мб)
Скачать «Каталог икон Е.Е. Егорова» (123 Мб)