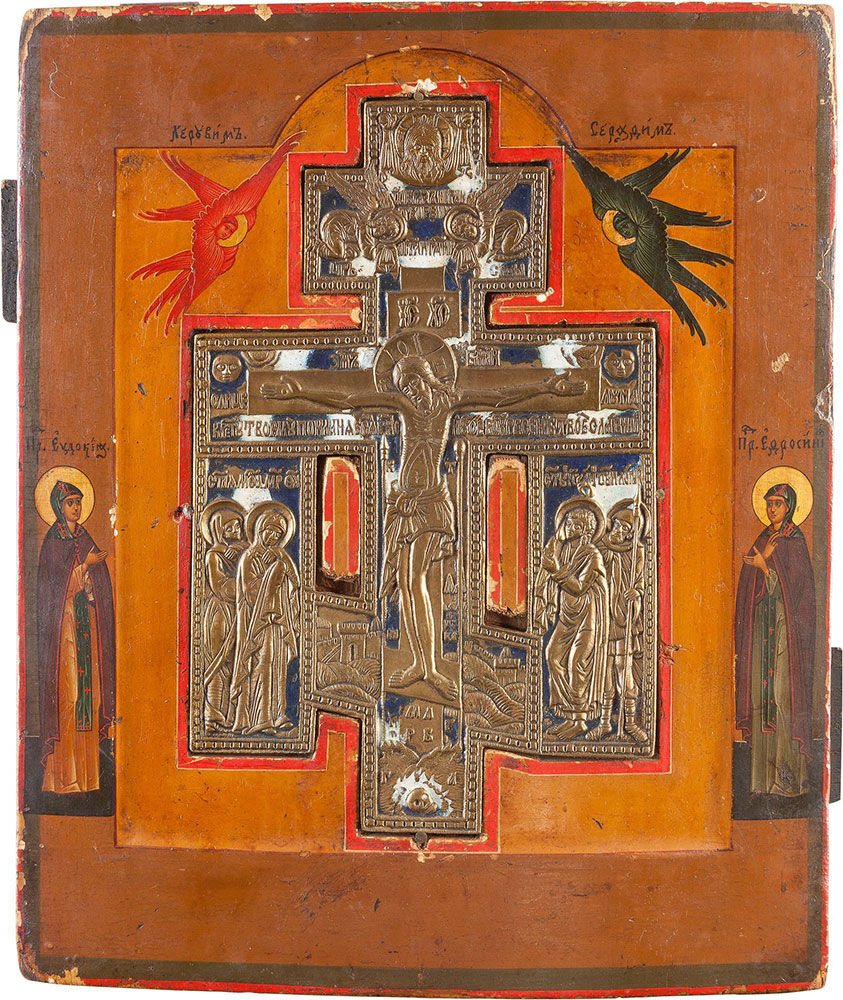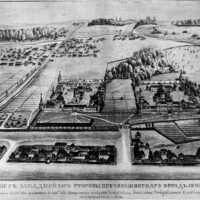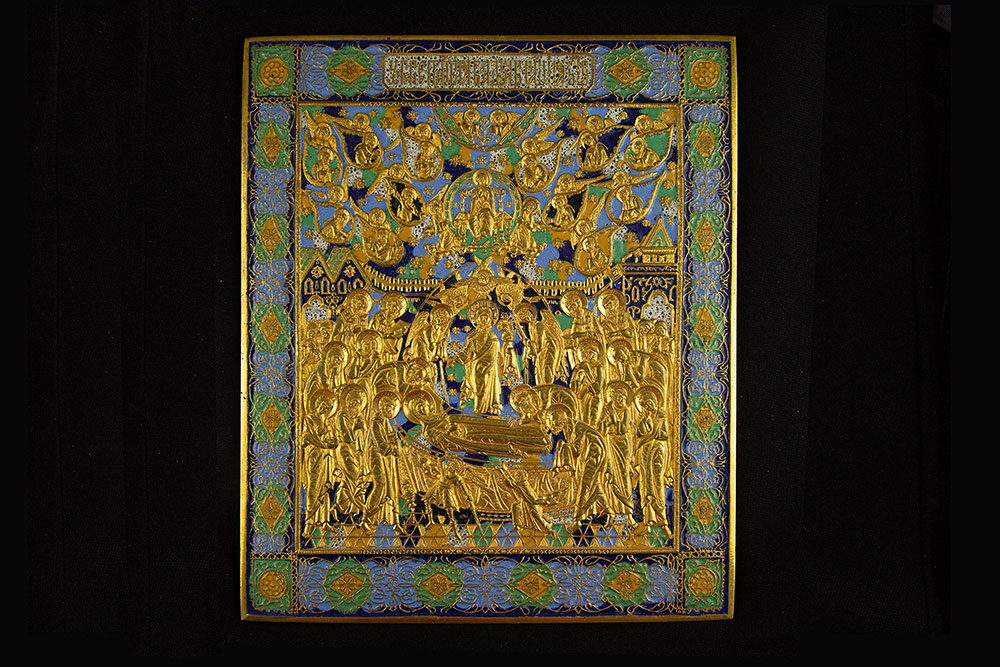К.Я. Кожурин. Духовные центры федосеевцев на территории Витебской губернии в середине XIX в.
В Российском Государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге нами был обнаружен интересный документ, имеющий отношение к истории староверия в бывшей Витебской губернии, как известно, включавшей в себя в середине XIX в. многие из земель, населенных староверами и в настоящее время входящих в состав трех государств – России, Беларуси и Латвии. Это дело, составленное на основе донесений («репортов») архиепископа Полоцкого и Витебского Василия [1].
Интересна личность автора этих «репортов». Василий (Бенедикт) Лужинский родился в 1791 г. в селе Старая Рудня Рогачевского уезда Могилевской губернии в семье униатского священника из дворян Стефана Лужина-Лужинского. После смерти отца воспитывался у двоюродного дяди помещика Кельчевского – католика по вероисповеданию. С 1807 г. обучался в Полоцкой униатской семинарии, с 1814 г. – в Полоцкой иезуитской академии, с 1816 г. проходил курс обучения в Главной католической семинарии при Виленском университете. В 1819 г. получил степень кандидата философии и был посвящен в священники. В 1820 г. получил степень магистра богословия, в 1825 г. – степень доктора богословия за сочинение «Commentatio inauguralis exegetico critica de origine Evangelium Mattaei, Marci et Lucae» («Критические комментарии источника синоптических Евангелий»).
После окончания обучения вернулся в Полоцк и был последовательно инспектором Полоцкой униатской семинарии, префектом Главной католической семинарии, ассесором коллегии по управлению делами греко-униатской церкви (в Санкт-Петербурге), председателем Полоцкой униатской консистории. 6 декабря 1833 г. Лужинский был назначен и 28 января 1834 г. рукоположен во епископа Оршанского, викария Белорусского униатского архиепископства. Перед хиротонией дал подписку о готовности принять православие. Лично посещал белорусские приходы, убеждал паству и духовенство в необходимости отказа от унии, от духовенства брал подписки о готовности принять православие, наблюдал за перестройкой униатских храмов по православному образцу, удалением органов, заменой латинской церковной утвари и богослужебных книг на православные, введением православного богослужения. В феврале 1838 г. Лужинский стал правящим архиереем Белорусского архиепископства. Вместе с епископами Иосифом (Семашко) и Антонием (Зубко) довел дело воссоединения белорусских униатов до завершения. 12 февраля 1839 г. в Полоцке Собор греко-униатских епископов и высшего духовенства подписал акт о воссоединении униатов с Греко-Российской церковью [2]. 7 июля 1840 г. назначен новообрядческим епископом Полоцким и Витебским, в 1841 г. возведен в сан архиепископа. В 1865 г. Василий был вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Синоде, 27 марта следующего года освобожден от управления епархией и назначен членом Синода. Скончался 26 января 1879 г. в Санкт-Петербурге. Похоронен в имении Любашковичи (с. Любашково Витебской губернии) близ Витебска.
В сане архиепископа Полоцкого и Витебского Василий Лужинский активно занимался миссионерской работой среди беспоповцев Витебской губернии, широко применяя методы, которым он обучился в иезуитских учебных заведениях. Результатом его деятельности стало присоединение к новообрядческой церкви 5 тысяч старообрядцев с 6 наставниками, для них были устроены единоверческие храмы.
28 июля 1853 г. архиепископ Василий получает из «Святейшего Правительствующего Синода» совершенно секретный указ за № 29 «относительно предположенных Святейшим Синодом и Высочайше утвержденных мер усиления духовно-нравственнаго действования на раскольников». «Заботясь о сохранении в совершенной тайне столь важных и благополезных предположений Правительства, и удостоверившись опытом, что чрез оффициальныя письменныя, хотя секретныя, поручения легко может обнаружиться тайна оных», архиепископ Василий признал необходимым, не теряя времени, под видом обозрения Полоцкой епархии отправиться в приходы 9 уездов Витебской губернии: Витебского, Полоцкого, Дриссенского, Динабургского, Режицкого, Люцинского, Себежского, Невельского и Городокского («где наиболее проживают раскольники») («для того именно, чтобы, не давая письменных предписаний, самому лично, с строжайшим наказом соблюдения секрета и с подписками, поручить избранным мною Духовным лицам, осторожнейшим образом и без всякой огласки собрать и доставить мне сведения о нынешнем числе раскольников и состоянии раскола и прочем, и чтобы, вместе с тем, лично пересмотреть тамошнее Духовенство, и ближайшим образом удостовериться в способностях и благоповедении его, а также лично же сделать ему по сему случаю нужное внушение и наставление» [3]). Поездка началась 6 сентября 1853 г. и продолжалась более месяца (до 19 октября того же года), результатом ее явились два «репорта» (от 31 октября и от 8 декабря 1853 г.), представляющие несомненную ценность для истории староверия в Витебской губернии в середине XIX века.
«Сколь ни затруднительно, – писал архиепископ Василий в Синод, – достигать здесь сведений о раскольниках, которые, обыкновенно, живут большею частию отдельно и в местах, населенных иноверными: но благоприятные случаи предоставили мне возможность, по многим местам, собрать сведения самому о нынешнем числе раскольников и в каких наиболее местах они проживают, а также о состоянии раскола, кто их наставники и коноводы; вместе с тем дознал я положительно и о том, какими они располагают средствами, чем особенно держится раскол, и чем с большею благонадежностию может быть потрясен до основания» [4]. Первым результатом поездки архиепископа Василия явилось удаление с тех приходов, вблизи которых проживали староверы, 25 священников, 5 диаконов и 31 причетника (в документе все они перечислены поименно), поскольку они оказались «по способностям и поведению совершенно ненадежными к действованию на раскольников», а некоторые из них «даже вредными в разсуждении к сей благой цели Правительства». Все неблагонадежные священники были переведены на приходы, «отдаленные от раскольников», а вместо них в 19 приходов Полоцкой епархии Василий определил священников, хорошо известных ему лично и, по его мнению, «благонравных, безкорыстных, богобоязненных и более или менее способных к действованию на раскольников».
Далее в «репорте» идет собственно описание «состояния раскола и мер к потрясению онаго до основания», которое представляет собой самую настоящую иезуитскую инструкцию по борьбе со староверием. «От нескольких лет прилагая Архипастырское попечение о разспространении Православия в здешнем крае, где так много было и ныне есть еще немало разноверцев, и между тем обращая особеннейшую заботливость и усилие к тому, чтобы привлечь на лоно святой Кафолической Апостольской Церкви раскольников, – народ большею частию трезвый и трудолюбивый, но вообще зараженный злобным предубеждением против православной нашей церкви, и упорный до ожесточения в своем заблуждении, – я постоянно, в духе любви, приветливости и благоснисхождения, сближался с наставниками раскольников, дабы в самом, так сказать, источнике изучить основныя понятия, главныя побуждения, увидеть крепчайшия опоры раскола, затем обдумать надежнейшие меры к его потрясению и постепенному уничтожению. Сила любви, постоянство и деятельность в усердии к святому делу церкви, искренность приветливости моей как к упомянутым наставникам, так и к каждому из руководимых ими простолюдинов, сделали их – обыкновенно скрытных и угрюмых – откровенными и доверчивыми ко мне; я начал посещать моленныя, внимательно выслушивая пение, молитвы и тщательно наблюдая все подробности обрядов при раскольническом Богослужении, всему оказывая подобающее уважение. Во время частых моих собеседований с раскольническими наставниками, я постоянно углублялся в их дух, старался проникнуть оный с целию, найти, в сих самых руководителях раскола, споспешников в ослаблении и уничтожении онаго. Предусмотрительность указала мне вернейшее средство к достижению этой цели: рукополагать во священнослужители к раскольникам самих их наставников, или избранныя ими лица. Предположение мое скоро было представлено на благоусмотрение Государя Императора и удостоено Высочайшаго одобрения. Опыт приведения в действо сего предположения увенчался значительным успехом; более 3000 душ обоего пола раскольников Витебской Губернии, таким образом привлечены были к единению с православною церковию, на правах Единоверия. Некоторые из рукоположенных мною во священнослужители раскольнических наставников возъимели ко мне, в короткое время, такую доверенность, что доставили мне две рукописи, в величайшей тайне хранимыя между раскольниками. Сии то рукописи, преисполненныя заклятой злобы и хулы на Патриарха Никона и Царя, и составляющия как бы инструкцию раскола, ясно указали мне, что сей раскол есть гораздо большее зло для Святой Церкви и Отечества, нежели как это может казаться с перваго взгляда, – и вполне уяснили то, почему раскольники так скрыты, уклончивы от сообществ и разговоров с православными, и так малодоступны убеждениям» [5]. (Неизвестно, о каких конкретно рукописях говорит здесь архиепископ Василий, но они были им лично переданы директору Канцелярии обер-прокурора Синода К. С. Сербиновичу во время его пребывания в Витебске.)
Архиепископ Василий говорит далее об ошибках некоторых гражданских чиновников, которые привели к тому, что процесс перехода староверов в единоверие был приостановлен. В этой связи он предлагает ряд дополнительных мер, необходимых для «потрясения, ослабления и постепеннаго уничтожения раскола»:
«1-е. Где нет моленных, или запечатаны оныя, решительно возбранить раскольникам, собираться в частные домы, для общественнаго молитвословия. Пусть бы каждое семейство особно совершало молитвы, если не льзя заставить оных ходить для сего в Единоверческия церкви.
2-е. Где есть моленныя, которыя, по закону, еще не закрываются, – решительно воспретить раскольническим наставникам совершать торжественно духовныя требы для раскольников: крестить, венчать браки, и погребать умерших, с церемониальным проводом на кладбища и отпеванием, дабы этот вид полной торжественности и открытой набожности напрасно не успокаивал и не удерживал раскольников в ослеплении, и не соблазнял юных Единоверцев.
3-е. Воспретить сказанным наставникам, иметь формальныя метрическия книги. Для записывания в оных венчания браков, родившихся и окрещенных младенцев, и умерших, дабы, по точному смыслу Закона, как браки, раскольническими наставниками повенчанные, не могли иметь, в мнении раскольников, и тени действительности, так и прижитых в оных детей они сами, в сознании своем, признавали бы незаконными.
4-е. Строжайше воспретить всем Городским и Земским Полициям и сельским Управлениям, а) требовать от наставников метрических записей о родившихся и окрещенных, бракосочетавшихся и умерших, б) именовать в оффициальных бумагах раскольников староверами, старообрядцами, а раскольнических наставников: «Ваше Преподобие», и надписывать на конвертах: «Его Преподобию, наставнику, или духовнику NN прихода»; ибо такое титулование недостойных лиц, которыми преимущественно поддерживается и питается раскол, подает заблудшим повод думать, что их наставники коноводы, по закону, пользуются правами духовной власти и уважением наравне с православным духовенством.
5-е. Подтвердить сказанным Полициям и Управлениям бдительно наблюдать за всеми раскольническими сборищами для молитвословий, возбранять таковыя и немедленно доносить об них начальству под сугубою ответственностию за послабление, или утайку.
6-е. Поелику помещики Римские католики, владеющие крестьянами тогоже исповедания, усугубляя свои меры к удержанию сих последних в латинстве, между прочим, указывают на православную церковь, как отделившуюся якобы от древлеправославной Грековосточной, и в подтверждение этой лжи представляют им лжемнение самих же Русских, так называемых староверов (раскольников), а сии заблудшие на спрос латинян простолюдинов действительно утверждают это, и притом с ужасными хулениями на православную церковь, на ея святителей и священников, и тем убеждают сих простолюдинов думать и быть уверенными, что как ни худа в глазах их вера Русских – раскольников, но (л. 10) оная гораздо лучше православной – Грекороссийской: то одною из надежнейших мер было бы строжайшее обязание сказанных и всех вообще помещиков, дабы а) не поручали раскольникам каких либо должностей по управлению имениями; б) не допускали ни малейшаго исправления моленных; в) не оказывали, в чем бы то ни было, покровительства раскольникам; г) не выдавали им свидетельств о своем согласии на повенчание браков раскольническими коноводами – наставниками; д) не изъявляли согласия на избрание наставников, на место умирающих. Наконец,
7-е. Так как все вышеизъясненныя меры имеют целию ограничение и пресечение пагубной свободы раскольников в внешнем оказательстве ереси, для потрясения в основаниях раскола: то, собственно для духовно нравственнаго действования на раскольников, признается мною еще крайне необходимым, устроить Единоверческия церкви с причтами в тех местах, где нет вовсе православных церквей, и где преимущественно населены в большем числе раскольники, чтобы сии заблудшие имели случай, мало по малу привыкать к Св. Церкви и располагаться к принятию Единоверия; а духовенство пользовалось бы всею возможностию сближаться с ними, и словом любви и назидания привлекать к единению с Св. Церковию. Во вверенной управлению моему Епархии, я усмотрел самое соответствующее для устройства Единоверческой Церкви с причтом место, Режицкаго уезда, в казенном имении, в селе Тискадах, населенном во множестве одними раскольниками, и во множестве же окружаемом ими же безпоповчинскаго толка, на большее пространство.
Если бы вышеизложенныя меры могли войти в законную силу, и Гражданские Чиновники всегда действовали по делам раскольническим совершенно безкорыстно, добросовестно и богобоязненно: то, при замещении всех приходов Священниками способными, богобоязненными, благонравными и безкорыстнодеятельными, можно, сколько мне известны местныя обстоятельства, ручаться, что раскол, в здешней стране, будет скоро ослаблен, потрясен в самых своих основаниях; ибо и при настоящем его положении, можно сказать, благоприятствующем расколу, не раз уже случалось мне слышать от многих раскольников: «пусть бы уже делали с нами то, или другое, или велели всем вообще присоединиться, или утвердили новым Законом существование», как они называют «староверия и права их наставников» [6].
16 ноября 1853 г. на заседании Синода этот распорт был одобрен, о мерах, предлагаемых архиепископом Василием, приказано было сообщить обер-прокурору Синода и министру внутренних дел, на строительство единоверческой церкви в Тискадах составить проект и смету, а самому Василию объявить признательность и благодарность.
8 декабря 1853 г. архиепископом Василием дополнительно был послан в Синод еще один рапорт с подробными сведениями о состоянии старообрядчества во вверенной ему епархии. В рапорте сообщаются данные («собранныя без всякой огласки, доверенными лицами, и доставленныя… в собственныя руки») о количестве староверов в Полоцкой епархии, о моленных, духовных наставниках («коноводах»), а также о том, «какими они располагают средствами, чем особенно держится раскол, и чем с большею благонадежностию может быть оный потрясен до основания».
Очередной рапорт в Синод архиепископ Василий послал спустя год, 15 декабря 1854 г. Он писал: «Хотя сделанный и делаемый мною, на основании сих правил, по приходам, вблизи и в пределах коих живут раскольники, замен неблагонадежных причтов более благонравными, безкорыстными и способными, не произвел успеха в обращении раскольников к Св. Церкви, но не менее того достигнута и достигается чрез это важная польза для Св. Церкви в том, что от раскольников отнят наглазный, приятный для них, взор на слабости духовенства, которыми обыкновенно пользуются они, обращая в хулу Св. Церкви, и при которых они с большею свободою устремляются на внешнее оказательство своей ереси. – При современных Государственных обстоятельствах, вопрос об обращении раскольников, сделался впрочем, ныне в здешней стране крайне затруднительным. – …Именно в настоящее время, отчаянные раскольники самонадеянно возносят к односектаторам глас свой – крепиться в заблуждениях, способствуя коснению их в оных книжными, содержимыми каждым наставником, Богохульными на Св. Церковь лжеучениями. Благоприятствующие во всякое время раскольникам иноверцы ныне особенно поощряют и разжигают в них отвращение от Св. Церкви. – Ослабление Полицейскаго надзора за ними допускает их к свободному совершению всех раскольнических обрядностей и привычек» [7].
Одним из самых действенных способов «борьбы с расколом» архиепископ Василий считал строительство единоверческих церквей и действие миссионеров. Он пишет о необходимости учреждения при духовных учебных заведениях специальных подготовительных классов. Вместе с тем существующую в новообрядческой церкви систему духовного образования он находил неудовлетворительной: «Обучение это ограничивается одною буквальною научностию уроков; между тем, судя по опыту, им (будущим миссионерам. – К.К.) предлежит дело не простаго поучения, а состязания с совопросниками, каковы все наши раскольники, и при том с такими совопросниками, которые по вере любят употреблять и всегда употребляют язык Священный, Церковный, – основываются более на учении и примерах Святых Отцев, мужей и жен. Посему для приготовления к собеседованиям и обращению раскольников к Св. вере необходимо установление системы полемической, так, чтобы один из воспитанников предлагал и защищал доводами раскольническими возражения раскольников, а другой отвергал оныя на основании истиннаго учения Св. Церкви, – необходимо, чтобы приготовляющиеся на дело с раскольниками воспитанники приучены были к изъяснениям на языке Церковном, знали подробно житие особенно тех святых мужей и жен, на жизнь и примеры коих раскольники приобыкли делать ссылки; ибо опыт убеждает, что сколь ни здравы и ни мудры предлагаются раскольникам беседы, но если оне не утвержаются и не сказаны известным им словом Священным или Церковным и не свидетельствованы примером Святаго мужа или жены, то беседы эти не достигают доверия или по крайней мере полнаго внимания раскольника. Для чего неизбежно необходимо ознакомливать упомянутых воспитанников с употребляемыми у раскольников Богослужебными и поучительными книгами» [8].
В данном деле содержится еще один любопытный документ. Это сделанные во исполнение указа Синода от 4 мая 1855 г. членом Синода протопресвитером Василием Бажановым выписки из отчета о современном состоянии старообрядчества в Витебской губернии, «заслуживающия внимание Духовнаго и Гражданскаго Начальства». Эти выписки дополняют и уточняют сведения, содержащиеся в рапорте архиепископа Василия.
По замечанию синодального протопресвитера, почти в половине старообрядческих семейств находятся лица, у которых в ревизских сказках неправильно указан возраст: некоторым из них прибавлено, некоторым убавлено до 10 и более лет, а некоторые и вовсе не вписаны. Делалось это для уменьшения числа годных в рекруты. Кроме того, ко многим семействам приписаны не принадлежащие к ним лица — «большею частию, из бежавших от военной службы, на место умерших родственников, которых именами они называются». Наконец, встречаются целые семейства, вовсе не записанные в ревизские сказки того мещанства, к которому себя причисляют. Из купцов и мещан, живущих вне городов, к которым они приписаны, и составляющих до 1600 семейств в числе 4237 душ, только 306 семейств в количестве 690 душ мужского пола имеют паспорта. Их «сожительницы» паспортов вовсе не имеют и в ревизских сказках, большею частию, приписаны к семействам сожителей, а не отцев. Витебские староверы, живущие в других губерниях, также обходятся без видов на жительство.
«Для обработки полей своих, — пишет Василий Бажанов, — раскольники держат постоянных, или временных работников, часто беглых, не принадлежащих к расколу, но оказывают им пренебрежение, и образа их ставят отдельно от своих, в последнем углу у двери, склоняя между прочим к соединению. По мере согласия, образ передвигают по стене к переднему углу, наконец по испытании и наложении эпитимии, совращеннаго допускают в моленную и, приняв в свое согласие, приписывают на место умерших, с присвоением их имен и дают им сожительниц из раскольниц» [9].
Местные помещики, на землях которых жили мещане и купцы-староверы, получая за отдаваемые им во временное пользование земли гораздо большую, нежели от других наемщиков плату, а в крестьянах имея исправнейших работников или плательщиков значительного и бездоимочного оборока, оказывали им покровительство. Кроме этих очевидных выгод, Василий Бажанов видел причину особой расположенности местных помещиков и полицейских властей к староверам в их римско-католическом исповедании, которому, по его мысли, неизменно сопутствовало негативное отношение к официальной новообрядческой церкви.
Одной из причин широкого распространения староверия в Витебской губернии Василий Бажанов считал малочисленность новообрядческого духовенства, особенно в районах компактного проживания староверов — в Динабургском, Режицком и даже Люцинском уездах. Так, в Динабургском уезде в это время было всего две, а в Режицком одна новообрядческая церковь. Анализируя современное состояние местного старообрядчества, протопресвитер Бажанов писал: «Раскол в Витебской Губернии держится преимущественно: собственными своими учреждениями, недостатком церковнаго вразумления, свободою в отправлении своих обрядов, покровительством прямо оказываемым ему владельцами земель и косвенно местными полицейскими и другими властями, наконец укрепляется существованием в столицах и других местах раскольничьих учреждений, под названием кладбищ, больниц, богаделень. Существование, обманным образом и под ложными названиями, устроенных в столицах и других местах скитов, моленных и других учреждений выставляемое коноводами, как формальное признание раскола, укореняет приверженность и вводит неведущих в заблуждение, образуя род Иерархическаго Управления» [10]. (Так, витебские староверы подчинялись Рижскому и отчасти Холопиницкому обществам.)
В выписках синодального протопресвитера содержится любопытный анализ некоторых сочинений местных беспоповцев. Обычно во всех миссионерских сочинениях, посвященных беспоповцам, говорилось — как об их отличительной черте — о «непризнании» ими священства и таинств, что приписывалось «предполагаемой ими утрате Духовенством благодати, за мнимое отступление от установленных Апостолами и первыми Соборами правил и обрядов и за введение новых». Между тем, замечает Бажанов, из одного рукописного сочинения, найденного у динабургских староверов, оказывается, что «приводимые предлоги, вероятно, в следствие неудовлетворения самых раскольников, пополнены вновь придуманными ложными изворотами о возможности спасения без причащения».
Сочинение это называется «Разсуждение древне Православной Церкви о обетах Божиих». В нем изчисляются данные Богом в Ветхом Завете обеты: Аврааму и Исааку о Земле Обетованной, царю Соломону о пребывании вечно в храме, им построенном, которые, однако, не исполнились по несоблюдении заповедей Божиих. Затем, переходя к Новому Завету, упоминаются слова Спасителя к Апостолам — первым епископам: «Се Аз с вами есмь до скончания века», но не сбывшимися над римскими папами за отпадение их от православия. Потом приводятся слова Спасителя: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем» и «Приимите и ядите сие бо есть тело Мое – пийте от нея вси, се бо есть кровь Моя Новаго Завета, за многия изливаемая, во оставление грехов и жизнь вечную», – и обещание Спасителя ученикам, причащенным от пречистых рук Его, жизни вечной, которой, однако же, Иуда не удостоился, потому что после причастия «вниде в него сатана», разбойник же, распятый со Христом, по одному слову Спасителя «Аминь глаголю тебе, днесь со Мною будеши в раи», без причастия прежде всех вселился в рай. Наконец, упоминается о вечности Пасхи в Ветхом и Новом Завете, причем приводятся «толкования Никиты, Ираклия (вероятно, имеется в виду Никита Ираклийский. — К.К.) и Сирина»: «Егда обрящем любовь, хлебом небесным питаемся и укрепляемся кроме всякаго дела и труда. А небесный хлеб есть Христос сшедый с небеси и живот дая миру и сия есть пища Ангельская. Обретый любовь Христа яст на всяк час и безсмертен бывает. Ядый бо, рече, от хлеба, его же Аз дам ему, смерти не узрит во веки. Блажен человек ядый хлеба любви – Христа яст». В заключение объясняется, что причащение бывает троякое: одно устное, как Иуды, другое духовное, когда верою и волею хощем тела и крови Спасителя, но по не имению священника не можем его получить и, наконец, третье причащение чистым сердцем и чистыми устами.
По мнению Василия Бажанова, «этим сочинением объясняется, почему раскольники безпоповские, не смотря на ясность завещания Спасителя о совершении таинства причащения и важности его, остаются равнодушными к увещаниям и вместе с этим положительно подтверждается заменение ими причащения Пасхою, сохраняемою в каждом доме целый год». При этом, в отличие от архиепископа Василия, синодальный протопресвитер достаточно скептически относился к перспективам распространения единоверия в Витебской губернии, считая, что «единоверие… представляет, облеченный в законную форму раскол, со всеми его заблуждениями и предразсудками, а поэтому не вполне достигает сближения» [11].
Далее Василий Бажанов предлагает конкретные меры к «ослаблению Витебскаго раскола», считая, что «поддерживаемый самовластием и неповиновением, распространяемый интересами, раскол в себе самом носит источник своего уничтожения; – а именно лишение выгод, привлекающих к нему». Для достижения этого необходимо выполнение четырех пунктов:
1. привести в точную известность число «раскольников»;
2. подчинить местные власти добросовестному и внимательному наблюдению за их действиями;
3. обязать каждого из них жить в городах, к которым приписаны, с безотложным соблюдением всех повинностей и установлений, лишив их возможности безнаказанно уклоняться от исполнения законных обязанностей. Тем самым «ослабятся раскольничьи общества и влияние богатых, а вместе с тем уничтожатся выгоды, сопряженныя, в настоящее время, с принадлежностию к расколу»;
4. распространять между староверами «истинное учение» с показанием их «заблуждений». Однако для того, чтобы «сочинения противу раскола могли потрясти и опровергнуть главныя их основания и лжетолкования, необходимо изучить со всею подробностию дух современнаго раскола в их сочинениях настоящаго времени» [12].
Рассмотрев предложения архиепископа Василия об устройстве безприходных единоверческих церквей и о присылке миссионеров из других епархий, а также, видимо, приняв во внимание соображения, высказанные протопресвитером Бажановым, Синод посчитал строительство безприходных единоверческих церквей «по местным обстоятельствам и экономическим соображениям» неудобным, а присылку миссионеров «представляющей различные затруднения» и на своем заседании 7 февраля 1862 г. определил: «Отложив, согласно с мнением Вашего Преосвященства, постройку в Полоцкой Епархии Единоверческих Церквей до более благоприятнаго времени, предписать Вам употребить особенную заботливость на приготовление способных миссионеров для действия против раскольников Витебской Губернии…» [13]. Тем самым широкомасштабный проект полоцкого архиепископа по «обращению раскольников в лоно православия» провалился, не найдя должной поддержки у властей.
Резюме
Статья посвящена истории и культуре староверов в середине XIX в. на территории бывшей Витебской губернии, земли которой в настоящее время входят в состав трех государств – России, Беларуси и Латвии. В основу статьи положен ранее не публиковавшийся архивный документ, хранящийся в Российском Государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге — дело, составленное на основе донесений
- РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1934. – По донесениям Преосвященного Полоцкого и по доставленному г. министром внутренних дел отчету, о состоянии раскола в Витебской губернии, о распоряжениях и мерах к обузданию и искоренению онаго (1853–1868).
- Насколько искренним со стороны Василия Лужинского было принятие православия, остается только гадать, поскольку в 1860 г. динабургский судебный следователь Довмантович в секретном рапорте доносил, что архиепископ не только имеет близких родных католиков, но и говорит в обществе по-польски. А при посещении в 1859 г. Режицкого и Люцинского уездов в имениях Яноволе и Михалово по его желанию на дорогах были выставлены девушки-католички, певшие католические молитвы. Сам же архиепископ молился на коленях в костеле (НИАБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 52098. Л. 32 об.).
- РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1934. Л. 1 об.
- Там же. Л. 2.
- Там же. Л. 6 — 7 об.
- Там же. Л. 8 об. — 10 об.
- Там же. Л. 38 — 38 об.
- Там же. Л. 39 об. — 40 об.
- Там же. Л. 50 об.
- Там же. Л. 51 об.
- Там же. Л. 52 об.
- Там же. Л. 53.
- Там же. Л. 99 об. — 100.